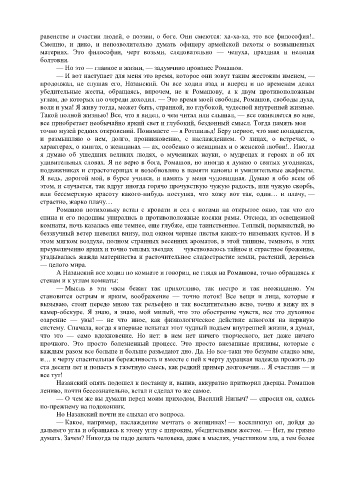Page 24 - Поединок
P. 24
равенстве и счастии людей, о поэзии, о боге. Они смеются: ха-ха-ха, это все философия!..
Смешно, и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных
материях. Это философия, черт возьми, следовательно — чепуха, праздная и нелепая
болтовня.
— Но это — главное в жизни, — задумчиво произнес Ромашов.
— И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем, —
продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал
убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным
углам, до которых по очереди доходил. — Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа,
воли и ума! Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью.
Такой полной жизнью! Все, что я видел, о чем читал или слышал, — все оживляется во мне,
все приобретает необычайно яркий свет и глубокий, бездонный смысл. Тогда память моя —
точно музей редких откровений. Понимаете — я Ротшильд! Беру первое, что мне попадается,
и размышляю о нем, долго, проникновенно, с наслаждением. О лицах, о встречах, о
характерах, о книгах, о женщинах — ах, особенно о женщинах и о женской любви!.. Иногда
я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях и об их
удивительных словах. Я не верю в бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках,
подвижниках и страстотерпцах и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты.
Я ведь, дорогой мой, в бурсе учился, и память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об
этом, и случается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь,
или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один… и плачу, —
страстно, жарко плачу…
Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его
спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной
комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но
беззвучный ветер шевелил внизу, под окном черные листья каких-то низеньких кустов. И в
этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих
преувеличенно ярких и точно теплых звездах — чувствовалось тайное и страстное брожение,
угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев
— целого мира.
А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к
стенам и к углам комнаты:
— Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум
становится острым и ярким, воображение — точно поток! Все вещи и лица, которые я
вызываю, стоят передо мною так рельефно и так восхитительно ясно, точно я вижу их в
камер-обскуре. Я знаю, я знаю, мой милый, что это обострение чувств, все это духовное
озарение — увы! — не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную
систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал,
что это — само вдохновение. Но нет: в нем нет ничего творческого, нет даже ничего
прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с
каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да. Но все-таки это безумие сладко мне,
и… к черту спасительная бережливость и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до
ста десяти лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия… Я счастлив — и
все тут!
Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно притворил дверцы. Ромашов
лениво, почти бессознательно, встал и сделал то же самое.
— О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилыч? — спросил он, садясь
по-прежнему на подоконник.
Но Назанский почти не слыхал его вопроса.
— Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах! — воскликнул он, дойдя до
дальнего угла и обращаясь к этому углу с широким, убедительным жестом. — Нет, не грязно
думать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыслях, участником зла, а тем более