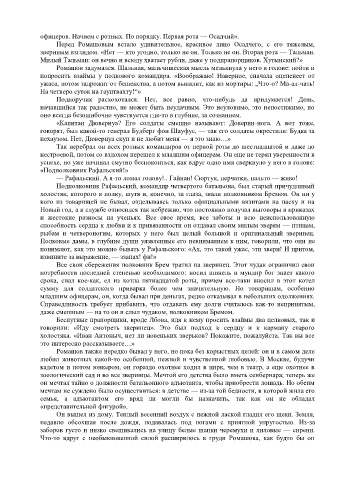Page 64 - Поединок
P. 64
офицеров. Начнем с ротных. По порядку. Первая рота — Осадчий».
Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего, с его тяжелым,
звериным взглядом. «Нет — кто угодно, только не он. Только не он. Вторая рота — Тальман.
Милый Тальман: он вечно и всюду хватает рубли, даже у подпрапорщиков. Хутынский?»
Ромашов задумался. Шальная, мальчишеская мысль мелькнула у него в голове: пойти и
попросить взаймы у полкового командира. «Воображаю! Наверное, сначала оцепенеет от
ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры: „Что-о? Ма-ал-чать!
На четверо суток на гауптвахту!“»
Подпоручик расхохотался. Нет, все равно, что-нибудь да придумается! День,
начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но
оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием.
«Капитан Дювернуа? Его солдаты смешно называют: Доверни-нога. А вот тоже,
говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус, — так его солдаты окрестили: Будка за
пехаузом. Нет, Дювернуа скуп и не любит меня — я это знаю…»
Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой и даже до
нестроевой, потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в
успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове:
«Подполковник Рафальский!»
— Рафальский. А я-то ломал голову!.. Гайнан! Сюртук, перчатки, пальто — живо!
Подполковник Рафальский, командир четвертого батальона, был старый причудливый
холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Бремом. Он ни у
кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на пасху и на
Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах
и жестокие разносы на ученьях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную
способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям — птицам,
рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец.
Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не
понимают, как это можно бывать у Рафальского: «Ах, это такой ужас, эти звери! И притом,
извините за выражение, — ззапах! фи!»
Все свои сбережения полковник Брем тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои
потребности последней степенью необходимого: носил шинель и мундир бог знает какого
срока, спал кое-как, ел из котла пятнадцатой роты, причем все-таки вносил в этот котел
сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно
младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях.
Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым,
даже смешным — на то он и слыл чудаком, полковником Бремом.
Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить взаймы два целковых, так и
говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого
холостяка. «Иван Антоныч, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста. Так вы все
это интересно рассказываете…»
Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей: он и в самом деле
любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи
кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в
зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было иметь сенбернара; теперь же
он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим
мечтам не суждено было осуществиться: в детстве — из-за той бедности, в которой жила его
семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал
«представительной фигурой».
Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лаской гладил его щеки. Земля,
недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за
заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемухи и лиловые — сирени.
Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он