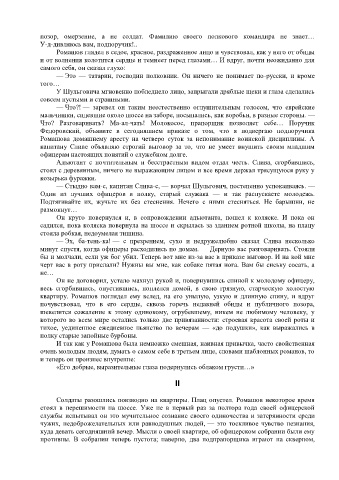Page 7 - Поединок
P. 7
позор, омерзение, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает…
У-д-дивляюсь вам, подпоручик!..
Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды
и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами… И вдруг, почти неожиданно для
самого себя, он сказал глухо:
— Это — татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, и кроме
того…
У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки и глаза сделались
совсем пустыми и страшными.
— Что?! — заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские
мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. —
Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапорщик позволяет себе… Поручик
Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика
Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. А
капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушить своим младшим
офицерам настоящих понятий о служебном долге.
Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись,
стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у
козырька фуражки.
— Стыдно вам-с, капитан Слива-с, — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. —
Один из лучших офицеров в полку, старый служака — и так распускаете молодежь.
Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться. Не барышни, не
размокнут…
Он круто повернулся и, в сопровождении адъютанта, пошел к коляске. И пока он
садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, на плацу
стояла робкая, недоумелая тишина.
— Эх, ба-тень-ка! — с презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько
минут спустя, когда офицеры расходились по домам. — Дернуло вас разговаривать. Стояли
бы и молчали, если уж бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне
черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а
не…
Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру,
весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой, в свою грязную, старческую холостую
квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг
почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора,
шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у
которого во всем мире остались только две привязанности: строевая красота своей роты и
тихое, уединенное ежедневное пьянство по вечерам — «до подушки», как выражались в
полку старые запойные бурбоны.
И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная
очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице, словами шаблонных романов, то
и теперь он произнес внутренне:
«Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком грусти…»
II
Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время
стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской
службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди
чужих, недоброжелательных или равнодушных людей, — это тоскливое чувство незнания,
куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему
противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном,