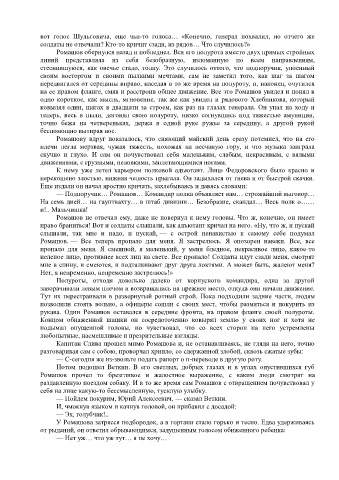Page 87 - Поединок
P. 87
вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса… «Конечно, генерал похвалил, но отчего же
солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади, из рядов… Что случилось?»
Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых стройных
линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям,
стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось оттого, что подпоручик, упоенный
своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом
передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился
на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в
одно короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядового Хлебникова, который
ковылял один, шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и
теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции,
точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой
беспомощно вытирая нос.
Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его
плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла
скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми
движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами.
К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и
перекошено злостью, нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки.
Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами:
— Подпоручик… Ромашов… Командир полка объявляет вам… строжайший выговор…
На семь дней… на гауптвахту… в штаб дивизии… Безобразие, скандал… Весь полк о……
и!.. Мальчишка!
Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет
право браниться! Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай
слышали, так мне и надо, и пускай, — с острой ненавистью к самому себе подумал
Ромашов. — Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все
пропало для меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то
нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят
мне в спину, и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня?
Нет, я непременно, непременно застрелюсь!»
Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой
заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение.
Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям
позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из
рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты.
Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не
подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены
любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.
Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно
разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:
— С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в другую роту.
Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ
Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на
раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у
себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку.
— Пойдем покурим, Юрий Алексеевич, — сказал Веткин.
И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой:
— Эх, голубчик!..
У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь
от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:
— Нет уж… что уж тут… я не хочу…