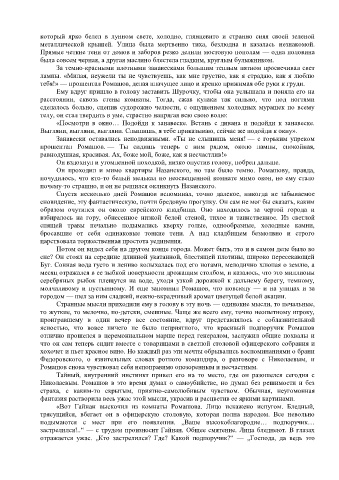Page 92 - Поединок
P. 92
который ярко белел в лунном свете, холодно, глянцевито и странно сияя своей зеленой
металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой.
Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам — одна половина
была совсем черная, а другая масляно блестела гладким, круглым булыжником.
За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет
лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю
тебя!» — прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди.
Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на
расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями
сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных мурашек по всему
телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю:
«Посмотри в окно… Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске.
Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну».
Занавески оставались неподвижными. «Ты не слышишь меня! — с горьким упреком
прошептал Ромашов. — Ты сидишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная,
равнодушная, красивая. Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!»
Он вздохнул и утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше.
Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда,
почудилось, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало
почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского.
Спустя несколько дней Ромашов вспоминал, точно далекое, никогда не забываемое
сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким
образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и
взбиралось на гору, обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из светлой
спящей травы печально подымались кверху голые, однообразные, холодные камни,
бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго
царствовала торжественная простота уединения.
Потом он видел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во
сне? Он стоял на середине длинной укатанной, блестящей плотины, широко пересекающей
Буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая о землю, а
месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это миллионы
серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному,
молчаливому и пустынному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду — и на улицах и за
городом — шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аромат цветущей белой акации.
Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь — одинокие мысли, то печальные,
то жуткие, то мелочно, по-детски, смешные. Чаще же всего ему, точно неопытному игроку,
проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с соблазнительной
ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов
отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы и
что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и
хохочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обрывались воспоминаниями о брани
Федоровского, о язвительных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым, и
Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным.
Тайный, внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с
Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без
страха, с каким-то скрытым, приятно-самолюбивым чувством. Обычная, неугомонная
фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами.
«Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо искажено испугом. Бледный,
трясущийся, вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно
подымаются с мест при его появлении. „Ваше высокоблагородие… подпоручик…
застрелился!..“ — с трудом произносит Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах
отражается ужас. „Кто застрелился? Где? Какой подпоручик?“ — „Господа, да ведь это