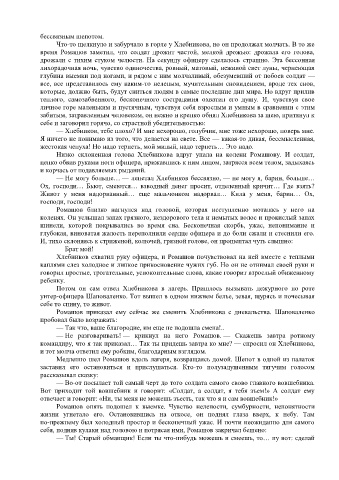Page 95 - Поединок
P. 95
бессвязным шепотом.
Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова, но он продолжал молчать. В то же
время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова,
дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Эта бессонная
лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая
глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат —
все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов,
которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив
теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое
личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим
забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к
себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью:
— Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне.
Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все — какая-то дикая, бессмысленная,
жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть… Это надо.
Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат,
цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь
и корчась от подавляемых рыданий.
— Не могу больше… — лепетал Хлебников бессвязно, — не могу я, барин, больше…
Ох, господи… Бьют, смеются… взводный денег просит, отделенный кричит… Где взять?
Живот у меня надорванный… еще мальчонком надорвал… Кила у меня, барин… Ох,
господи, господи!
Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на
коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах
шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и
глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его.
И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно:
— Брат мой!
Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми
каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и
говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному
ребенку.
Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте
унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая
себе то спину, то живот.
Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко
пробовал было возражать:
— Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена!..
— Не разговаривать! — крикнул на него Ромашов. — Скажешь завтра ротному
командиру, что я так приказал… Так ты придешь завтра ко мне? — спросил он Хлебникова,
и тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом.
Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток
заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом
рассказывал сказку:
— Во-от посылает той самый черт до того солдата самого свово главного вовшебника.
Вот приходит той вовшебник и говорит: «Солдат, а солдат, я тебя зъем!» А солдат ему
отвечает и говорит: «Ни, ты меня не можешь зъесть, так что я и сам вовшебник!»
Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности
жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там
по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого
себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено:
— Ты! Старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и смеешь, то… ну вот: сделай