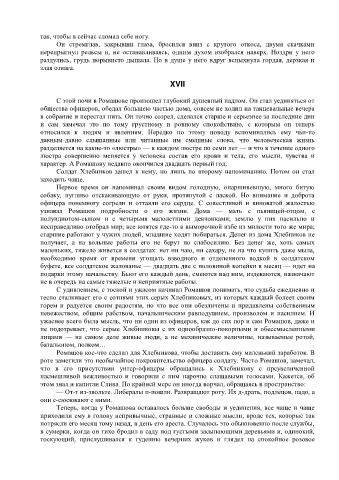Page 96 - Поединок
P. 96
так, чтобы я сейчас сломал себе ногу.
Он стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками
перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом взобрался наверх. Ноздри у него
раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и
злая отвага.
XVII
С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он стал уединяться от
общества офицеров, обедал большею частью дома, совсем не ходил на танцевальные вечера
в собрание и перестал пить. Он точно созрел, сделался старше и серьезнее за последние дни
и сам замечал это по тому грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь
относился к людям и явлениям. Нередко по этому поводу вспоминались ему чьи-то
давным-давно слышанные или читанные им смешные слова, что человеческая жизнь
разделяется на какие-то «люстры» — в каждом люстре по семи лет — и что в течение одного
люстра совершенно меняется у человека состав его крови и тела, его мысли, чувства и
характер. А Ромашову недавно окончился двадцать первый год.
Солдат Хлебников зашел к нему, но лишь по второму напоминанию. Потом он стал
заходить чаще.
Первое время он напоминал своим видом голодную, опаршивевшую, много битую
собаку, пугливо отскакивающую от руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта
офицера понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и виноватой жалостью
узнавал Ромашов подробности о его жизни. Дома — мать с пьяницей-отцом, с
полуидиотом-сыном и с четырьмя малолетними девчонками; землю у них насильно и
несправедливо отобрал мир; все ютятся где-то в выморочной избе из милости того же мира;
старшие работают у чужих людей, младшие ходят побираться. Денег из дома Хлебников не
получает, а на вольные работы его не берут по слабосилию. Без денег же, хоть самых
маленьких, тяжело живется в солдатах: нет ни чаю, ни сахару, не на что купить даже мыла,
необходимо время от времени угощать взводного и отделенного водкой в солдатском
буфете, все солдатское жалованье — двадцать две с половиной копейки в месяц — идет на
подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются над ним, издеваются, назначают
не в очередь на самые тяжелые и неприятные работы.
С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов понимать, что судьба ежедневно и
тесно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим
горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным
невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И
ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до сих пор и сам Ромашов, даже и
не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмысленными
лицами — на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой,
батальоном, полком…
Ромашов кое-что сделал для Хлебникова, чтобы доставить ему маленький заработок. В
роте заметили это необычайное покровительство офицера солдату. Часто Ромашов, замечал,
что в его присутствии унтер-офицеры обращались к Хлебникову с преувеличенной
насмешливой вежливостью и говорили с ним нарочно слащавыми голосами. Кажется, об
этом знал и капитан Слива. По крайней мере он иногда ворчал, обращаясь в пространство:
— От-т из-звольте. Либералы п-пошли. Развращают роту. Их д-драть, подлецов, надо, а
они с-сюсюкают с ними.
Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и чаще
приходили ему в голову непривычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так
потрясли его месяц тому назад, в день его ареста. Случалось это обыкновенно после службы,
в сумерки, когда он тихо бродил в саду под густыми засыпающими деревьями и, одинокий,
тоскующий, прислушивался к гудению вечерних жуков и глядел на спокойное розовое