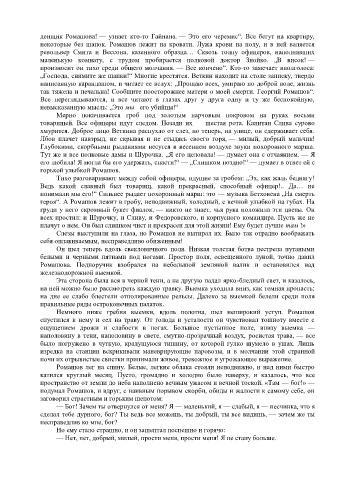Page 93 - Поединок
P. 93
денщик Ромашова! — узнает кто-то Гайнана. — Это его черемис“. Все бегут на квартиру,
некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется
револьвер Смита и Вессона, казенного образца… Сквозь толпу офицеров, наполнявших
маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойко. „В висок! —
произносит он тихо среди общего молчания. — Все кончено“. Кто-то замечает вполголоса:
„Господа, снимите же шапки!“ Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо
написанную карандашом, и читает ее вслух: „Прощаю всех, умираю по доброй воле, жизнь
так тяжела и печальна! Сообщите поосторожнее матери о моей смерти. Георгий Ромашов“.
Все переглядываются, и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную,
невысказанную мысль: „Это мы его убийцы!“
Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покровом на руках восьми
товарищей. Все офицеры идут следом. Позади их — шестая рота. Капитан Слива сурово
хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь, на улице, он сдерживает себя.
Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не стыдясь своего горя, — милый, добрый мальчик!
Глубокими, скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша.
Тут же и все полковые дамы и Шурочка. „Я его целовала! — думает она с отчаянием. — Я
его любила! Я могла бы его удержать, спасти!“ — „Слишком поздно!“ — думает в ответ ей с
горькой улыбкой Ромашов.
Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом: „Эх, как жаль беднягу!
Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер!.. Да… не
понимали мы его!“ Сильнее рыдает похоронный марш: это — музыка Бетховена „На смерть
героя“. А Ромашов лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На
груди у него скромный букет фиалок, — никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он
всех простил: и Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же не
плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни! Ему будет лучше там !»
Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать
себя оплакиваемым, несправедливо обиженным!
Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва пестрела путаными
белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил
Ромашова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной валик и остановился над
железнодорожной выемкой.
Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал ярко-бледный свет, и казалось,
на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть;
на дне ее слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля
правильные ряды остроконечных палаток.
Немного ниже гребня выемки, вдоль полотна, шел неширокий уступ. Ромашов
спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с
ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка —
наполовину в тени, наполовину в свете, смутно-прозрачный воздух, росистая трава, — все
было погружено в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело в ушах. Лишь
изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной
ночи их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение.
Ромашов лег на спину. Белые, легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро
катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все
пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. «Там — бог!» —
подумал Ромашов, и вдруг, с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он
заговорил страстным и горьким шепотом:
— Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я — маленький, я — слабый, я — песчинка, что я
сделал тебе дурного, бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь, — зачем же ты
несправедлив ко мне, бог?
Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо:
— Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня! Я не стану больше.