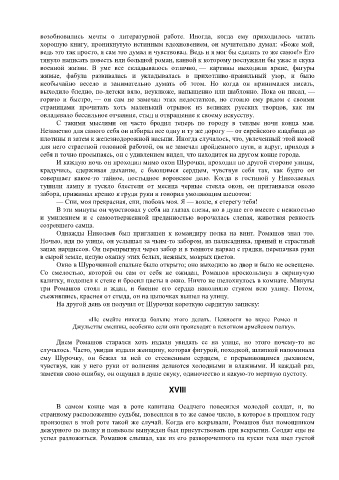Page 98 - Поединок
P. 98
возобновились мечты о литературной работе. Иногда, когда ему приходилось читать
хорошую книгу, проникнутую истинным вдохновением, он мучительно думал: «Боже мой,
ведь это так просто, я сам это думал и чувствовал. Ведь и я мог бы сделать то же самое!» Его
тянуло написать повесть или большой роман, канвой к которому послужили бы ужас и скука
военной жизни. В уме все складывалось отлично, — картины выходили яркие, фигуры
живые, фабула развивалась и укладывалась в прихотливо-правильный узор, и было
необычайно весело и занимательно думать об этом. Но когда он принимался писать,
выходило бледно, по-детски вяло, неуклюже, напыщенно или шаблонно. Пока он писал, —
горячо и быстро, — он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему рядом с своими
страницами прочитать хоть маленький отрывок из великих русских творцов, как им
овладевало бессильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству.
С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая.
Незаметно для самого себя он избирал все одну и ту же дорогу — от еврейского кладбища до
плотины и затем к железнодорожной насыпи. Иногда случалось, что, увлеченный этой новой
для него страстной головной работой, он не замечал пройденного пути, и вдруг, приходя в
себя и точно просыпаясь, он с удивлением видел, что находится на другом конце города.
И каждую ночь он проходил мимо окон Шурочки, проходил по другой стороне улицы,
крадучись, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем, чувствуя себя так, как будто он
совершает какое-то тайное, постыдное воровское дело. Когда в гостиной у Николаевых
тушили лампу и тускло блестели от месяца черные стекла окон, он притаивался около
забора, прижимал крепко к груди руки и говорил умоляющим шепотом:
— Спи, моя прекрасная, спи, любовь моя. Я — возле, я стерегу тебя!
В эти минуты он чувствовал у себя на глазах слезы, но в душе его вместе с нежностью
и умилением и с самоотверженной преданностью ворочалась слепая, животная ревность
созревшего самца.
Однажды Николаев был приглашен к командиру полка на винт. Ромашов знал это.
Ночью, идя по улице, он услышал за чьим-то забором, из палисадника, пряный и страстный
запах нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки, перепачкав руки
в сырой земле, целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов.
Окно в Шурочкиной спальне было открыто; оно выходило во двор и было не освещено.
Со смелостью, которой он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипучую
калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате. Минуты
три Ромашов стоял и ждал, и биение его сердца наполняло стуком всю улицу. Потом,
съежившись, краснея от стыда, он на цыпочках вышел на улицу.
На другой день он получил от Шурочки короткую сердитую записку:
«Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во вкусе Ромео и
Джульетты смешны, особенно если они происходят в пехотном армейском полку».
Днем Ромашов старался хоть издали увидать ее на улице, но этого почему-то не
случалось. Часто, увидав издали женщину, которая фигурой, походкой, шляпкой напоминала
ему Шурочку, он бежал за ней со стесненным сердцем, с прерывающимся дыханием,
чувствуя, как у него руки от волнения делаются холодными и влажными. И каждый раз,
заметив свою ошибку, он ощущал в душе скуку, одиночество и какую-то мертвую пустоту.
XVIII
В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат, и, по
странному расположению судьбы, повесился в то же самое число, в которое в прошлом году
произошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали, Ромашов был помощником
дежурного по полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не
успел разложиться. Ромашов слышал, как из его развороченного на куски тела шел густой