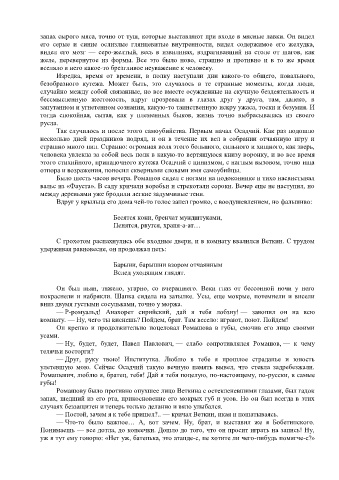Page 99 - Поединок
P. 99
запах сырого мяса, точно от туш, которые выставляют при входе в мясные лавки. Он видел
его серые и синие ослизлые глянцевитые внутренности, видел содержимое его желудка,
видел его мозг — серо-желтый, весь в извилинах, вздрагивавший на столе от шагов, как
желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и противно и в то же время
вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку.
Изредка, время от времени, в полку наступали дни какого-то общего, повального,
безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди,
случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и
бессмысленную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в
запутанном и угнетенном сознании, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумия. И
тогда спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего
русла.
Так случилось и после этого самоубийства. Первым начал Осадчий. Как раз подошло
несколько дней праздников подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и
страшно много пил. Странно: огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь,
человека увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся книзу воронку, и во все время
этого стихийного, припадочного кутежа Осадчий с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища
отпора и возражения, поносил скверными словами имя самоубийцы.
Было шесть часов вечера. Ромашов сидел с ногами на подоконнике и тихо насвистывал
вальс из «Фауста». В саду кричали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил, но
между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени.
Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с воодушевлением, но фальшиво:
Бесятся кони, бренчат мундштуками,
Пенятся, рвутся, храпя-а-ат…
С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату ввалился Веткин. С трудом
удерживая равновесие, он продолжал петь:
Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.
Он был пьян, тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от бессонной ночи у него
покраснели и набрякли. Шапка сидела на затылке. Усы, еще мокрые, потемнели и висели
вниз двумя густыми сосульками, точно у моржа.
— Р-ромуальд! Анахорет сирийский, дай я тебя лобзну! — завопил он на всю
комнату. — Ну, чего ты киснешь? Пойдем, брат. Там весело: играют, поют. Пойдем!
Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в губы, смочив его лицо своими
усами.
— Ну, будет, будет, Павел Павлович, — слабо сопротивлялся Ромашов, — к чему
телячьи восторги?
— Друг, руку твою! Институтка. Люблю в тебе я прошлое страданье и юность
улетевшую мою. Сейчас Осадчий такую вечную память вывел, что стекла задребезжали.
Ромашевич, люблю я, братец, тебя! Дай я тебя поцелую, по-настоящему, по-русски, в самые
губы!
Ромашову было противно опухшее лицо Веткина с остекленевшими глазами, был гадок
запах, шедший из его рта, прикосновение его мокрых губ и усов. Но он был всегда в этих
случаях беззащитен и теперь только деланно и вяло улыбался.
— Постой, зачем я к тебе пришел?.. — кричал Веткин, икая и пошатываясь.
— Что-то было важное… А, вот зачем. Ну, брат, и выставил же я Бобетинского.
Понимаешь — все дотла, до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись! Ну,
уж я тут ему говорю: «Нет уж, батенька, это атанде-с, не хотите ли чего-нибудь помягче-с?»