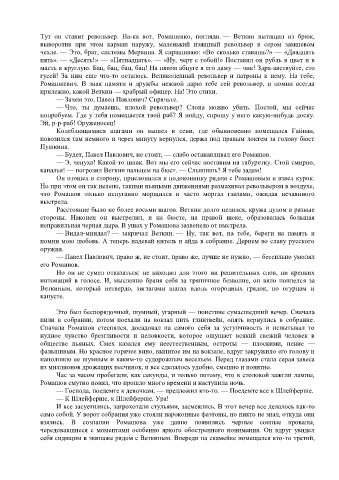Page 100 - Поединок
P. 100
Тут он ставит револьвер. На-ка вот, Ромашенко, погляди. — Веткин вытащил из брюк,
выворотив при этом карман наружу, маленький изящный револьвер в сером замшевом
чехле. — Это, брат, системы Мервина. Я спрашиваю: «Во сколько ставишь?» — «Двадцать
пять». — «Десять!» — «Пятнадцать». — «Ну, черт с тобой!» Поставил он рубль в цвет и в
масть в круглую. Бац, бац, бац, бац! На пятом абцуге я его даму — чик! Здра-авствуйте, сто
гусей! За ним еще что-то осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На тебе,
Ромашкевич. В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер, и помни всегда
прилежно, какой Веткин — храбрый офицер. На! Это стихи.
— Зачем это, Павел Павлович? Спрячьте.
— Что, ты думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить. Постой, мы сейчас
попробуем. Где у тебя помещается твой раб? Я пойду, спрошу у него какую-нибудь доску.
Эй, р-р-раб! Оруженосец!
Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновенно помещался Гайнан,
повозился там немного и через минуту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст
Пушкина.
— Будет, Павел Павлович, не стоит, — слабо останавливал его Ромашов.
— Э, чепуха! Какой-то шпак. Вот мы его сейчас поставим на табуретку. Стой смирно,
каналья! — погрозил Веткин пальцем на бюст. — Слышишь? Я тебе задам!
Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом с Ромашовым и взвел курок.
Но при этом он так нелепо, такими пьяными движениями размахивал револьвером в воздухе,
что Ромашов только испуганно морщился и часто моргал глазами, ожидая нечаянного
выстрела.
Расстояние было не более восьми шагов. Веткин долго целился, кружа дулом в разные
стороны. Наконец он выстрелил, и на бюсте, на правой щеке, образовалась большая
неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от выстрела.
— Видал-миндал? — закричал Веткин. — Ну, так вот, на тебе, береги на память и
помни мою любовь. А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем во славу русского
оружия.
— Павел Павлович, право ж, не стоит, право же, лучше не нужно, — бессильно умолял
его Ромашов.
Но он не сумел отказаться: не находил для этого ни решительных слов, ни крепких
интонаций в голосе. И, мысленно браня себя за тряпичное безволие, он вяло поплелся за
Веткиным, который нетвердо, зигзагами шагал вдоль огородных грядок, по огурцам и
капусте.
Это был беспорядочный, шумный, угарный — поистине сумасшедший вечер. Сначала
пили в собрании, потом поехали на вокзал пить глинтвейн, опять вернулись в собрание.
Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за уступчивость и испытывал то
нудное чувство брезгливости и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в
обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остроты — плоскими, пение —
фальшивым. Но красное горячее вино, выпитое им на вокзале, вдруг закружило его голову и
наполнило ее шумным и каким-то судорожным весельем. Перед глазами стала серая завеса
из миллионов дрожащих песчинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно.
Час за часом пробегали, как секунды, и только потому, что в столовой зажгли лампы,
Ромашов смутно понял, что прошло много времени и наступила ночь.
— Господа, поедемте к девочкам, — предложил кто-то. — Поедемте все к Шлейферше.
— К Шлейферше, к Шлейферше. Ура!
И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись. В этот вечер все делалось как-то
само собой. У ворот собрания уже стояли пароконные фаэтоны, но никто не знал, откуда они
взялись. В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы,
чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел
себя сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался кто-то третий,