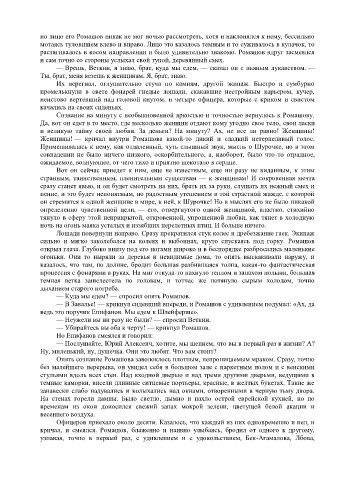Page 101 - Поединок
P. 101
но лицо его Ромашов никак не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бессильно
мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это казалось темным и то суживалось в кулачок, то
растягивалось в косом направлении и было удивительно знакомо. Ромашов вдруг засмеялся
и сам точно со стороны услыхал свой тупой, деревянный смех.
— Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем, — сказал он с пьяным лукавством. —
Ты, брат, меня везешь к женщинам. Я, брат, знаю.
Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой экипаж. Быстро и сумбурно
промелькнули в свете фонарей гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер,
неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера, которые с криком и свистом
качались на своих сиденьях.
Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точностью вернулось к Ромашову.
Да, вот он едет в то место, где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои ласки
и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту? Ах, не все ли равно! Женщины!
Женщины! — кричал внутри Ромашова какой-то дикий и сладкий нетерпеливый голос.
Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный звук, мысль о Шурочке, но в этом
совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а, наоборот, было что-то отрадное,
ожидаемое, волнующее, от чего тихо и приятно щекотало в сердце.
Вот он сейчас приедет к ним, еще не известным, еще ни разу не виданным, к этим
странным, таинственным, пленительным существам — к женщинам! И сокровенная мечта
сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и
пение, и это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой
он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шурочке! Но в мыслях его не было никакой
определенно чувственной цели, — его, отвергнутого одной женщиной, властно, стихийно
тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви, как тянет в холодную
ночь на огонь маяка усталых и иззябших перелетных птиц. И больше ничего.
Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук колес и дребезжание гаек. Экипаж
сильно и мягко заколебался на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов
открыл глаза. Глубоко внизу под его ногами широко и в беспорядке разбросались маленькие
огоньки. Они то ныряли за деревья и невидимые дома, то опять выскакивали наружу, и
казалось, что там, по долине, бродит большая разбившаяся толпа, какая-то фантастическая
процессия с фонарями в руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни, большая
темная ветка зашелестела по головам, и тотчас же потянуло сырым холодом, точно
дыханием старого погреба.
— Куда мы едем? — спросил опять Ромашов.
— В Завалье! — крикнул сидевший впереди, и Ромашов с удивлением подумал: «Ах, да
ведь это поручик Епифанов. Мы едем к Шлейферше».
— Неужели вы ни разу не были? — спросил Веткин.
— Убирайтесь вы оба к черту! — крикнул Ромашов.
Но Епифанов смеялся и говорил:
— Послушайте, Юрий Алексеич, хотите, мы шепнем, что вы в первый раз в жизни? А?
Ну, миленький, ну, душечка. Они это любят. Что вам стоит?
Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, точно
без малейшего перерыва, он увидел себя в большом зале с паркетным полом и с венскими
стульями вдоль всех стен. Над входной дверью и над тремя другими дверьми, ведущими в
темные каморки, висели длинные ситцевые портьеры, красные, в желтых букетах. Такие же
занавески слабо надувались и колыхались над окнами, отворенными в черную тьму двора.
На стенах горели дампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кухней, но по
временам из окон доносился свежий запах мокрой зелени, цветущей белой акации и
весеннего воздуха.
Офицеров приехало около десяти. Казалось, что каждый из них одновременно и пел, и
кричал, и смеялся. Ромашов, блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому,
узнавая, точно в первый раз, с удивлением и с удовольствием, Бек-Агамалова, Лбова,