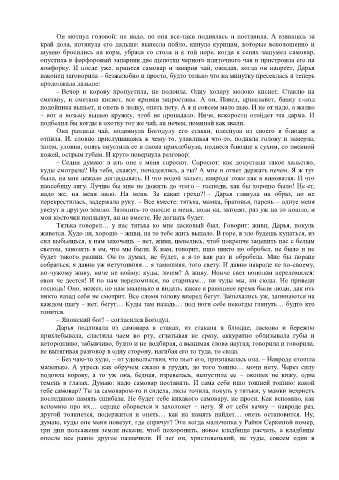Page 13 - Прощание с Матерой
P. 13
Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за
край дола, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и
шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар,
опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на
конфорку. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья
наконец заговорила – безжалобно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь
продолжала дальше:
– Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на
сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под
подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко
– вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. Ничe, вскорости отойдет эта дарма. И
подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали.
Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и
отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла,
затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной
кожей, острым губам. И круто повернула разговор:
– Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство,
куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут
была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что
наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого – господи, как бы хорошо было! Не-ет,
надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! – Дарья глянула на образ, но не
перекрестилась, задержала руку. – Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень – однуе меня
увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж на то пошло, и
мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.
Тятька говорeл… у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль
живется. Худо ли, хорошо – живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зло будешь купаться, из
сил выбьешься, к нам захочешь – нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым
светом, занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто но обробел, не было и не
будет такого разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране
собраться, я давно уж нетутошняя… я тамошняя, того свету. И давно навроде не по-своему,
по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу. Нончe свет пополам переломился:
eвон че деется! И по нам переломился, по старикам… ни туды мы, ни сюды. Не приведи
господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешнее время были люди, дак ить
никто назад себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на
каждом шагу – нет, бегут… Куды там назадь… под ноги себе некогды глянуть… будто кто
гонится.
– Японский бог! – согласился Богодул.
Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно
прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и
неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила,
не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.
– Без чаю-то худо, – от удовольствия, что пьет его, признавалась она. – Навроде отошла
маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно… мочи нету. Через силу
подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее – окошек не вижу, одна
темень в глазах. Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой
тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь
последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как
вспомню про их… сердце оборвется и захолонет – нету. Я от себя качну – навроде раз,
другой толкнется, подeржится и опеть… как на память найдет… опеть остановится. Ну,
думаю, куды оне меня повезут, где спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер,
три дни полсажени земли искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище
опосле все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в