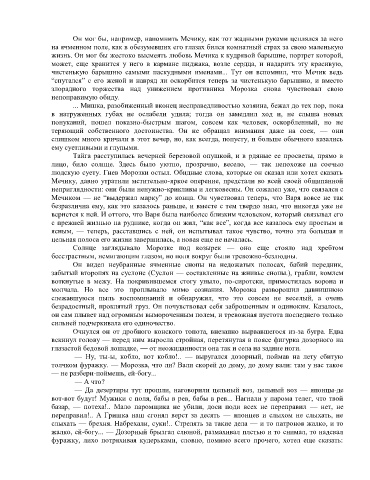Page 28 - Разгром
P. 28
Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него
на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую
жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой,
может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую,
чистенькую барышню самыми паскудными именами... Тут он вспомнил, что Мечик ведь
“спутался” с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и вместо
злорадного торжества над унижением противника Морозка снова чувствовал свою
непоправимую обиду.
... Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока
в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых
понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не
теряющий собственного достоинства. Он не обращал внимания даже на соек, — они
слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались
ему суетливыми и глупыми.
Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы, прямо в
лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, — так непохоже на соечью
людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать
Мечику, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной
неприглядности: они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с
Мечиком — не “выдержал марку” до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так
безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не
вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его
с прежней жизнью на руднике, когда он жил, “как все”, когда все казалось ему простым и
ясным, — теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и
цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась.
Солнце заглядывало Морозке под козырек — оно еще стояло над хребтом
бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.
Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник,
забытый второпях на суслоне (Суслон — составленные на жнивье снопы.), грабли, комлем
воткнутые в межу. На покривившемся стогу уныло, по-сиротски, примостилась ворона и
молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю
слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень
безрадостный, проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось,
он сам плывет над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только
сильней подчеркивала его одиночество.
Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва
вскинул голову — перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на
глазастой бедовой лошадке, — от неожиданности она так и села на задние ноги.
— Ну, ты-ы, кобло, вот кобло!.. — выругался дозорный, поймав на лету сбитую
толчком фуражку. — Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое
— не разбери-поймешь, ей-богу...
— А что?
— Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз — японцы-де
вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой
базар, — потеха!.. Мало паромщика не убили, доси поди всех не переправил — нет, не
переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять — японцев и слыхом не слыхать, не
слыхать — брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела — и то патронов жалко, и то
жалко, ей-богу... — Дозорный брызгал слюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал
фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: