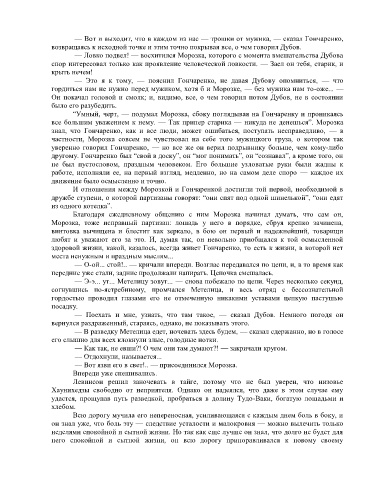Page 58 - Разгром
P. 58
— Вот и выходит, что в каждом из нас — трошки от мужика, — сказал Гончаренко,
возвращаясь к исходной точке и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов.
— Ловко подвел! — восхитился Морозка, которого с момента вмешательства Дубова
спор интересовал только как проявление человеческой ловкости. — Заел он тебя, старик, и
крыть нечем!
— Это я к тому, — пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться, — что
гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя б и Морозке, — без мужика нам то-оже... —
Он покачал головой и смолк; и, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии
было его разубедить.
“Умный, черт, — подумал Морозка, сбоку поглядывая на Гончаренку и проникаясь
все большим уважением к нему. — Так припер старика — никуда не денешься”. Морозка
знал, что Гончаренко, как и все люди, может ошибаться, поступать несправедливо, — в
частности, Морозка совсем не чувствовал на себе того мужицкого груза, о котором так
уверенно говорил Гончаренко, — но все же он верил подрывнику больше, чем кому-либо
другому. Гончаренко был “свой в доску”, он “мог понимать”, он “сознавал”, а кроме того, он
не был пустословом, праздным человеком. Его большие узловатые руки были жадны к
работе, исполняли ее, на первый взгляд, медленно, но на самом деле споро — каждое их
движение было осмысленно и точно.
И отношения между Морозкой и Гончаренкой достигли той первой, необходимой в
дружбе ступени, о которой партизаны говорят: “они спят под одной шинелькой”, “они едят
из одного котелка”.
Благодаря ежедневному общению с ним Морозка начинал думать, что сам он,
Морозка, тоже исправный партизан: лошадь у него в порядке, сбруя крепко зачинена,
винтовка вычищена и блестит как зеркало, в бою он первый и надежнейший, товарищи
любят и уважают его за это. И, думая так, он невольно приобщался к той осмысленной
здоровой жизни, какой, казалось, всегда живет Гончаренко, то есть к жизни, в которой нет
места ненужным и праздным мыслям...
— О-ой... стой!.. — кричали впереди. Возглас передавался по цепи, и, в то время как
передние уже стали, задние продолжали напирать. Цепочка смешалась.
— Э-э... ут... Метелицу зовут... — снова побежало по цепи. Через несколько секунд,
согнувшись по-ястребиному, промчался Метелица, и весь отряд с бессознательной
гордостью проводил глазами его не отмеченную никакими уставами цепкую пастушью
посадку.
— Поехать и мне, узнать, что там такое, — сказал Дубов. Немного погодя он
вернулся раздраженный, стараясь, однако, не показывать этого.
— В разведку Метелица едет, ночевать здесь будем, — сказал сдержанно, но в голосе
его слышно для всех клокнули злые, голодные нотки.
— Как так, не евши?! О чем они там думают?! — закричали кругом.
— Отдохнули, называется...
— Вот язви его в свет!.. — присоединился Морозка.
Впереди уже спешивались.
Левинсон решил заночевать в тайге, потому что не был уверен, что низовье
Хаунихедзы свободно от неприятеля. Однако он надеялся, что даже в этом случае ему
удастся, прощупав путь разведкой, пробраться в долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и
хлебом.
Всю дорогу мучила его непереносная, усиливающаяся с каждым днем боль в боку, и
он знал уже, что боль эту — следствие усталости и малокровия — можно вылечить только
неделями спокойной и сытной жизни. Но так как еще лучше он знал, что долго не будет для
него спокойной и сытной жизни, он всю дорогу приноравливался к новому своему