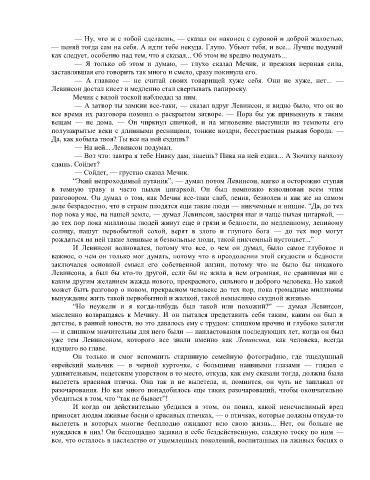Page 62 - Разгром
P. 62
— Ну, что ж с тобой сделаешь, — сказал он наконец с суровой и доброй жалостью,
— пеняй тогда сам на себя. А идти тебе некуда. Глупо. Убьют тебя, и все... Лучше подумай
как следует, особенно над тем, что я сказал... Об этом не вредно подумать...
— Я только об этом и думаю, — глухо сказал Мечик, и прежняя нервная сила,
заставлявшая его говорить так много и смело, сразу покинула его.
— А главное — не считай своих товарищей хуже себя. Они не хуже, нет... —
Левинсон достал кисет и медленно стал свертывать папироску.
Мечик с вялой тоской наблюдал за ним.
— А затвор ты замкни все-таки, — сказал вдруг Левинсон, и видно было, что он во
все время их разговора помнил о раскрытом затворе. — Пора бы уж привыкнуть к таким
вещам — не дома. — Он чиркнул спичкой, и на мгновение выступили из темноты его
полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие ноздри, бесстрастная рыжая борода. —
Да, как кобыла твоя? Ты все на ней ездишь?
— На ней... Левинсон подумал.
— Вот что: завтра я тебе Нивку дам, знаешь? Пика на ней ездил... А Зючиху начхозу
сдашь. Сойдет?
— Сойдет, — грустно сказал Мечик.
“Экий непроходимый путаник”, — думал потом Левинсон, мягко и осторожно ступая
в темную траву и часто пыхая цигаркой. Он был немножко взволнован всем этим
разговором. Он думал о том, как Мечик все-таки слаб, ленив, безволен и как же на самом
деле безрадостно, что в стране плодятся еще такие люди — никчемные и нищие. “Да, до тех
пор пока у нас, на нашей земле, — думал Левинсон, заостряя шаг и чаще пыхая цигаркой, —
до тех пор пока миллионы людей живут еще в грязи и бедности, по медленному, ленивому
солнцу, пашут первобытной сохой, верят в злого и глупого бога — до тех пор могут
рождаться на ней такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет...”
И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и
важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении этой скудости и бедности
заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого
Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, не сравнимая ни с
каким другим желанием жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой
может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы
вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо скудной жизнью.
“Но неужели и я когда-нибудь был такой или похожий?” — думал Левинсон,
мысленно возвращаясь к Мечику. И он пытался представить себя таким, каким он был в
детстве, в ранней юности, но это давалось ему с трудом: слишком прочно и глубоко залегли
— и слишком значительны для него были — напластования последующих лет, когда он был
уже тем Левинсоном, которого все знали именно как Левинсона, как человека, всегда
идущего во главе.
Он только и смог вспомнить старинную семейную фотографию, где тщедушный
еврейский мальчик — в черной курточке, с большими наивными глазами — глядел с
удивительным, недетским упорством в то место, откуда, как ему сказали тогда, должна была
вылететь красивая птичка. Она так и не вылетела, и, помнится, он чуть не заплакал от
разочарования. Но как много понадобилось еще таких разочарований, чтобы окончательно
убедиться в том, что “так не бывает”!
И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред
приносят людям лживые басни о красивых птичках, — о птичках, которые должны откуда-то
вылететь и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь... Нет, он больше не
нуждался в них! Он беспощадно задавил в себе бездейственную, сладкую тоску по ним —
все, что осталось в наследство от ущемленных поколений, воспитанных на лживых баснях о