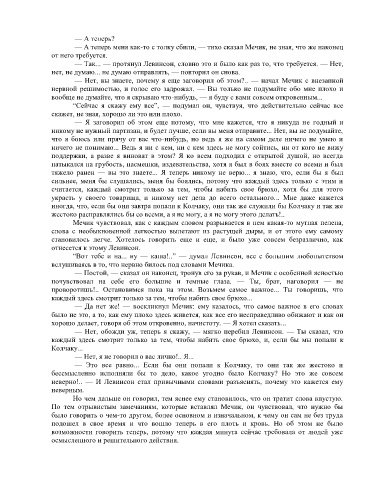Page 61 - Разгром
P. 61
— А теперь?
— А теперь меня как-то с толку сбили, — тихо сказал Мечик, не зная, что же наконец
от него требуется.
— Так... — протянул Левинсон, словно это и было как раз то, что требуется. — Нет,
нет, не думаю... не думаю отправлять, — повторил он снова.
— Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?.. — начал Мечик с внезапной
нервной решимостью, и голос его задрожал. — Вы только не подумайте обо мне плохо и
вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь, — я буду с вами совсем откровенным...
“Сейчас я скажу ему все”, — подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все
скажет, не зная, хорошо ли это или плохо.
— Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и
никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте,
что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и
ничего не понимаю... Ведь я ни с кем, ни с кем здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу
поддержки, а разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда
натыкался на грубость, насмешки, издевательства, хотя я был в боях вместе со всеми и был
тяжело ранен — вы это знаете... Я теперь никому не верю... я знаю, что, если бы я был
сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что каждый здесь только с этим и
считается, каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого
украсть у своего товарища, и никому нет дела до всего остального... Мне даже кажется
иногда, что, если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же
жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..
Мечик чувствовал, как с каждым словом разрывается в нем какая-то мутная пелена,
слова с необыкновенной легкостью вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому
становилось легче. Хотелось говорить еще и еще, и было уже совсем безразлично, как
отнесется к этому Левинсон.
“Вот тебе и на... ну — каша!..” — думал Левинсон, все с большим любопытством
вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Мечика.
— Постой, — сказал он наконец, тронув его за рукав, и Мечик с особенной ясностью
почувствовал на себе его большие и темные глаза. — Ты, брат, наговорил — не
проворотишь!.. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное... Ты говоришь, что
каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо...
— Да нет же! — воскликнул Мечик: ему казалось, что самое важное в его словах
было не это, а то, как ему плохо здесь живется, как все его несправедливо обижают и как он
хорошо делает, говоря об этом откровенно, начистоту. — Я хотел сказать...
— Нет, обожди уж, теперь я скажу, — мягко перебил Левинсон. — Ты сказал, что
каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и, если бы мы попали к
Колчаку...
— Нет, я не говорил о вас лично!.. Я...
— Это все равно... Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и
бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку? Но это же совсем
неверно!.. — И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему
неверным.
Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что он тратит слова впустую.
По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Мечик, он чувствовал, что нужно бы
было говорить о чем-то другом, более основном и изначальном, к чему он сам не без труда
подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было
возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже
осмысленного и решительного действия.