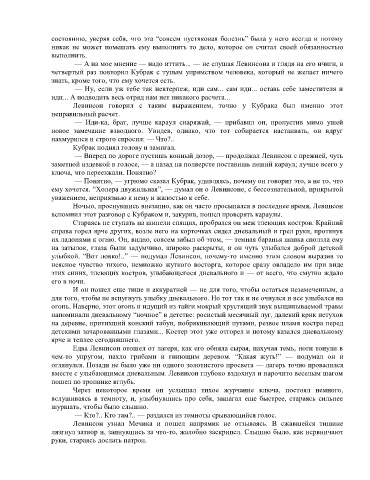Page 59 - Разгром
P. 59
состоянию, уверяя себя, что эта “совсем пустяковая болезнь” была у него всегда и потому
никак не может помешать ему выполнить то дело, которое он считал своей обязанностью
выполнить.
— А на мое мнение — надо иттить... — не слушая Левинсона и глядя на его ичиги, в
четвертый раз повторил Кубрак с тупым упрямством человека, который не желает ничего
знать, кроме того, что ему хочется есть.
— Ну, если уж тебе так невтерпеж, иди сам... сам иди... оставь себе заместителя и
иди... А подводить весь отряд нам нет никакого расчета...
Левинсон говорил с таким выражением, точно у Кубрака был именно этот
неправильный расчет.
— Иди-ка, брат, лучше караул снаряжай, — прибавил он, пропустив мимо ушей
новое замечание взводного. Увидев, однако, что тот собирается настаивать, он вдруг
нахмурился и строго спросил: — Что?..
Кубрак поднял голову и замигал.
— Вперед по дороге пустишь конный дозор, — продолжал Левинсон с прежней, чуть
заметной издевкой в голосе, — а назад на полверсте поставишь пеший караул; лучше всего у
ключа, что переезжали. Понятно?
— Понятно, — угрюмо сказал Кубрак, удивляясь, почему он говорит это, а не то, что
ему хочется. “Холера двужильная”, — думал он о Левинсоне, с бессознательной, прикрытой
уважением, неприязнью к нему и жалостью к себе.
Ночью, проснувшись внезапно, как он часто просыпался в последнее время, Левинсон
вспомнил этот разговор с Кубраком и, закурив, пошел проверять караулы.
Стараясь не ступать на шинели спящих, пробрался он меж тлеющих костров. Крайний
справа горел ярче других, возле него на корточках сидел дневальный и грел руки, протянув
их ладонями к огню. Он, видно, совсем забыл об этом, — темная баранья шапка сползла ему
на затылок, глаза были задумчиво, широко раскрыты, и он чуть улыбался доброй детской
улыбкой. “Вот ловко!..” — подумал Левинсон, почему-то именно этим словом выразив то
неясное чувство тихого, немножко жуткого восторга, которое сразу овладело им при виде
этих синих, тлеющих костров, улыбающегося дневального и — от всего, что смутно ждало
его в ночи.
И он пошел еще тише и аккуратней — не для того, чтобы остаться незамеченным, а
для того, чтобы не вспугнуть улыбку дневального. Но тот так и не очнулся и все улыбался на
огонь. Наверно, этот огонь и идущий из тайги мокрый хрустящий звук выщипываемой травы
напоминали дневальному “ночное” в детстве: росистый месячный луг, далекий крик петухов
на деревне, притихший конский табун, побрякивающий путами, резвое пламя костра перед
детскими зачарованными глазами... Костер этот уже отгорел и потому казался дневальному
ярче и теплее сегодняшнего.
Едва Левинсон отошел от лагеря, как его обняла сырая, пахучая темь, ноги тонули в
чем-то упругом, пахло грибами и гниющим деревом. “Какая жуть!” — подумал он и
оглянулся. Позади не было уже ни одного золотистого просвета — лагерь точно провалился
вместе с улыбающимся дневальным. Левинсон глубоко вздохнул и нарочито веселым шагом
пошел по тропинке вглубь.
Через некоторое время он услышал тихое журчание ключа, постоял немного,
вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал еще быстрее, стараясь сильнее
шуршать, чтобы было слышно.
— Кто?.. Кто там?.. — раздался из темноты срывающийся голос.
Левинсон узнал Мечика и пошел напрямик не отзываясь. В сжавшейся тишине
лязгнул затвор и, запнувшись за что-то, жалобно заскрипел. Слышно было, как нервничают
руки, стараясь дослать патрон.