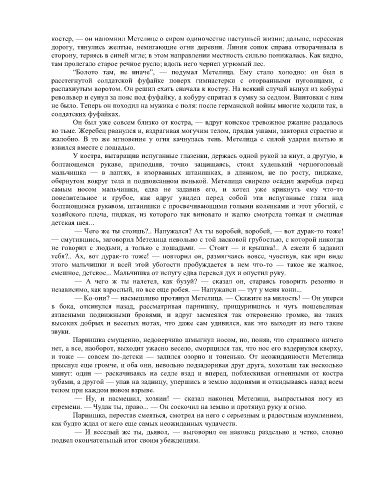Page 64 - Разгром
P. 64
костер, — он напомнил Метелице о сиром одиночестве пастушьей жизни; дальше, пересекая
дорогу, тянулись желтые, немигающие огни деревни. Линия сопок справа отворачивала в
сторону, теряясь в синей мгле; в этом направлении местность сильно понижалась. Как видно,
там пролегало старое речное русло; вдоль него чернел угрюмый лес.
“Болото там, не иначе”, — подумал Метелица. Ему стало холодно: он был в
расстегнутой солдатской фуфайке поверх гимнастерки с оторванными пуговицами, с
распахнутым воротом. Он решил ехать сначала к костру. На всякий случай вынул из кобуры
револьвер и сунул за пояс под фуфайку, а кобуру спрятал в сумку за седлом. Винтовки с ним
не было. Теперь он походил на мужика с поля: после германской войны многие ходили так, в
солдатских фуфайках.
Он был уже совсем близко от костра, — вдруг конское тревожное ржание раздалось
во тьме. Жеребец рванулся и, вздрагивая могучим телом, прядая ушами, завторил страстно и
жалобно. В то же мгновение у огня качнулась тень. Метелица с силой ударил плетью и
взвился вместе с лошадью.
У костра, вытаращив испуганные глазенки, держась одной рукой за кнут, а другую, в
болтающемся рукаве, приподняв, точно защищаясь, стоял худенький черноголовый
мальчишка — в лаптях, в изорванных штанишках, в длинном, не по росту, пиджаке,
обернутом вокруг тела и подпоясанном пенькой. Метелица свирепо осадил жеребца перед
самым носом мальчишки, едва не задавив его, и хотел уже крикнуть ему что-то
повелительное и грубое, как вдруг увидел перед собой эти испуганные глаза над
болтающимся рукавом, штанишки с просвечивающими голыми коленками и этот убогий, с
хозяйского плеча, пиджак, из которого так виновато и жалко смотрела тонкая и смешная
детская шея...
— Чего же ты стоишь?.. Напужался? Ах ты воробей, воробей, — вот дурак-то тоже!
— смутившись, заговорил Метелица невольно с той ласковой грубостью, с которой никогда
не говорил с людьми, а только с лошадьми. — Стоит — и крышка!.. А ежели б задавил
тебя?.. Ах, вот дурак-то тоже! — повторил он, размягчаясь вовсе, чувствуя, как при виде
этого мальчишки и всей этой убогости пробуждается в нем что-то — такое же жалкое,
смешное, детское... Мальчишка от испугу едва перевел дух и опустил руку.
— А чего ж ты налетел, как бузуй? — сказал он, стараясь говорить резонно и
независимо, как взрослый, но все еще робея. — Напужаиси — тут у меня кони...
— Ко-они? — насмешливо протянул Метелица. — Скажите на милость! — Он уперся
в бока, откинулся назад, рассматривая парнишку, прищурившись и чуть пошевеливая
атласными подвижными бровями, и вдруг засмеялся так откровенно громко, на таких
высоких добрых и веселых нотах, что даже сам удивился, как это выходят из него такие
звуки.
Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом, но, поняв, что страшного ничего
нет, а все, наоборот, выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху,
и тоже — совсем по-детски — залился озорно и тоненько. От неожиданности Метелица
прыснул еще громче, и оба они, невольно подзадоривая друг друга, хохотали так несколько
минут: один — раскачиваясь на седле взад и вперед, поблескивая огненными от костра
зубами, а другой — упав на задницу, упершись в землю ладонями и откидываясь назад всем
телом при каждом новом взрыве.
— Ну, и насмешил, хозяин! — сказал наконец Метелица, выпрастывая ногу из
стремени. — Чудак ты, право... — Он соскочил на землю и протянул руку к огню.
Парнишка, перестав смеяться, смотрел на него с серьезным и радостным изумлением,
как будто ждал от него еще самых неожиданных чудачеств.
— И веселый же ты, дьявол, — выговорил он наконец раздельно и четко, словно
подвел окончательный итог своим убеждениям.