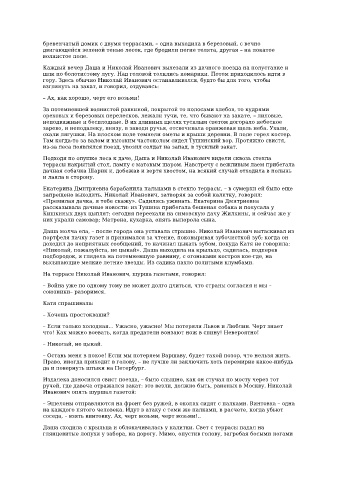Page 108 - Хождение по мукам. Сёстры
P. 108
бревенчатый домик с двумя террасами, – одна выходила в березовый, с вечно
двигающейся зеленой тенью лесок, где бродили пегие телята, другая – на покатое
волнистое поле.
Каждый вечер Даша и Николай Иванович вылезали из дачного поезда на полустанке и
шли по болотистому лугу. Над головой толклись комарики. Потом приходилось идти в
гору. Здесь обычно Николай Иванович останавливался, будто бы для того, чтобы
взглянуть на закат, и говорил, отдуваясь:
– Ах, как хорошо, черт его возьми!
За потемневшей волнистой равниной, покрытой то полосами хлебов, то кудрями
ореховых и березовых перелесков, лежали тучи, те, что бывают на закате, – лиловые,
неподвижные и бесплодные. В их длинных щелях тусклым светом догорало небесное
зарево, и неподалеку, внизу, в заводи ручья, отсвечивала оранжевая щель неба. Ухали,
охали лягушки. На плоском поле темнели ометы и крыши деревни. В поле горел костер.
Там когда-то за валом и высоким частоколом сидел Тушинский вор. Протяжно свистя,
из-за леса появлялся поезд, увозил солдат на запад, в тусклый закат.
Подходя по опушке леса к даче, Даша и Николай Иванович видели сквозь стекла
террасы накрытый стол, лампу с матовым шаром. Навстречу с вежливым лаем прибегала
дачная собачка Шарик и, добежав и вертя хвостом, на всякий случай отходила в полынь
и лаяла в сторону.
Екатерина Дмитриевна барабанила пальцами в стекло террасы, – в сумерки ей было еще
запрещено выходить. Николай Иванович, затворяя за собой калитку, говорил:
«Премилая дачка, я тебе скажу». Садились ужинать. Екатерина Дмитриевна
рассказывала дачные новости: из Тушина прибегала бешеная собака и покусала у
Кишкиных двух цыплят; сегодня переехали на симовскую дачу Жилкины, и сейчас же у
них украли самовар; Матрена, кухарка, опять выпорола сына.
Даша молча ела, – после города она уставала страшно. Николай Иванович вытаскивал из
портфеля пачку газет и принимался за чтение, поковыривая зубочисткой зуб; когда он
доходил до неприятных сообщений, то начинал цыкать зубом, покуда Катя не говорила:
«Николай, пожалуйста, не цыкай». Даша выходила на крыльцо, садилась, подперев
подбородок, и глядела на потемневшую равнину, с огоньками костров кое-где, на
высыпающие мелкие летние звезды. Из садика пахло политыми клумбами.
На террасе Николай Иванович, шурша газетами, говорил:
– Война уже по одному тому не может долго длиться, что страны согласия и мы –
союзники– разоримся.
Катя спрашивала:
– Хочешь простокваши?
– Если только холодная… Ужасно, ужасно! Мы потеряли Львов и Люблин. Черт знает
что! Как можно воевать, когда предатели вонзают нож в спину! Невероятно!
– Николай, не цыкай.
– Оставь меня в покое! Если мы потеряем Варшаву, будет такой позор, что нельзя жить.
Право, иногда приходит в голову, – не лучше ли заключить хоть перемирие какое-нибудь
да и повернуть штыки на Петербург.
Издалека доносился свист поезда, – было слышно, как он стучал по мосту через тот
ручей, где давеча отражался закат: это везли, должно быть, раненых в Москву. Николай
Иванович опять шуршал газетой:
– Эшелоны отправляются на фронт без ружей, в окопах сидят с палками. Винтовка – одна
на каждого пятого человека. Идут в атаку с теми же палками, в расчете, когда убьют
соседа, – взять винтовку. Ах, черт возьми, черт возьми!..
Даша сходила с крыльца и облокачивалась у калитки. Свет с террасы падал на
глянцевитые лопухи у забора, на дорогу. Мимо, опустив голову, загребая босыми ногами