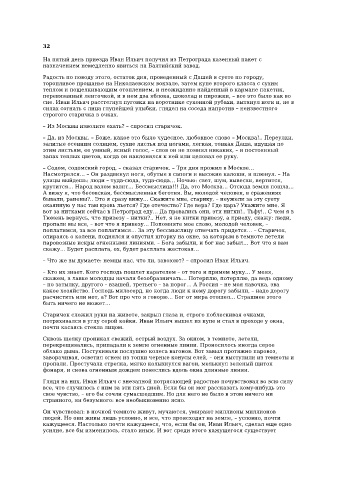Page 138 - Хождение по мукам. Сёстры
P. 138
32
На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с
назначением немедленно явиться на Балтийский завод.
Радость по поводу этого, остаток дня, проведенный с Дашей в суете по городу,
торопливое прощанье на Николаевском вокзале, затем купе второго класса с сухим
теплом и пощелкивающим отоплением, и неожиданно найденный в кармане пакетик,
перевязанный ленточкой, и в нем два яблока, шоколад и пирожки, – все это было как во
сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи, вытянул ноги и, не в
силах согнать с лица глупейшей улыбки, глядел на соседа напротив – неизвестного
строгого старичка в очках.
– Из Москвы изволите ехать? – спросил старичок.
– Да, из Москвы. – Боже, какое это было чудесное, любовное слово – Москва!.. Переулки,
залитые осенним солнцем, сухие листья под ногами, легкая, тонкая Даша, идущая по
этим листьям, ее умный, ясный голос, – слов он не помнил никаких, – и постоянный
запах теплых цветов, когда он наклонялся к ней или целовал ее руку.
– Содом, содомский город, – сказал старичок. – Три дня прожил в Москве…
Насмотрелся… – Он раздвинул ноги, обутые в сапоги и высокие калоши, и плюнул. – На
улицы выйдешь: люди – туда-сюда, туда-сюда… Ночью: свет, шум, вывески, вертится,
крутится… Народ валом валит… Бессмыслица!!! Да, это Москва… Отсюда земля пошла…
А вижу я, что бесовская, бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях
бывали, ранены?.. Это я сразу вижу… Скажите мне, старику, – неужели за эту суету
окаянную у нас там кровь льется? Где отечество? Где вера? Где царь? Укажите мне. Я
вот за нитками сейчас в Петроград еду… Да провались они, эти нитки!.. Тьфу!.. С чем я в
Тюмень вернусь, что привезу – нитки?.. Нет, я не нитки привезу, а приеду, скажу: люди,
пропали мы все, – вот что я привезу… Попомните мое слово, молодой человек, –
поплатимся, за все поплатимся… За эту бессмыслицу отвечать придется… – Старичок,
опираясь о колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели
паровозные искры огненными линиями. – Бога забыли, и бог нас забыл… Вот что я вам
скажу… Будет расплата, ох, будет расплата жестокая…
– Что же вы думаете: немцы нас, что ли, завоюют? – спросил Иван Ильич.
– Кто их знает. Кого господь пошлет карателем – от того и примем муку… У меня,
скажем, в лавке молодцы начали безобразничать… Потерплю, потерплю, да ведь одному
– по затылку, другого – взашей, третьего – за порог… А Россия – не моя лавочка, эва
какое хозяйство. Господь милосерд, но когда люди к нему дорогу забыли, – надо дорогу
расчистить или нет, а? Вот про что я говорю… Бог от мира отошел… Страшнее этого
быть ничего не может…
Старичок сложил руки на животе, закрыл глаза и, строго поблескивая очками,
потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе и стал в проходе у окна,
почти касаясь стекла лицом.
Сквозь щелку проникал свежий, острый воздух. За окном, в темноте, летели,
перекрещивались, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое
облако дыма. Постукивали послушно колеса вагонов. Вот завыл протяжно паровоз,
заворачивая, осветил огнем из топки черные конусы елей, – они выступили из темноты и
пропали. Простучала стрелка, мягко колыхнулся вагон, мелькнул зеленый щиток
фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии.
Глядя на них, Иван Ильич с внезапной потрясающей радостью почувствовал во всю силу
все, что случилось с ним за эти пять дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это
свое чувство, – его бы сочли сумасшедшим. Но для него не было в этом ничего ни
странного, ни безумного: все необыкновенно ясно.
Он чувствовал: в ночной темноте живут, мучаются, умирают миллионы миллионов
людей. Но они живы лишь условно, и все, что происходит на земле, – условно, почти
кажущееся. Настолько почти кажущееся, что, если бы он, Иван Ильич, сделал еще одно
усилие, все бы изменилось, стало иным. И вот среди этого кажущегося существует