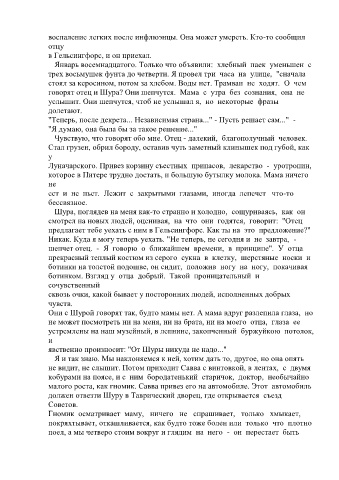Page 37 - Старик
P. 37
воспаление легких после инфлюэнцы. Она может умереть. Кто-то сообщил
отцу
в Гельсингфорс, и он приехал.
Январь восемнадцатого. Только что объявили: хлебный паек уменьшен с
трех восьмушек фунта до четверти. Я провел три часа на улице, "сначала
стоял за керосином, потом за хлебом. Воды нет. Трамваи не ходят. О чем
говорят отец и Шура? Они шепчутся. Мама с утра без сознания, она не
услышит. Они шепчутся, чтоб не услышал я, но некоторые фразы
долетают.
"Теперь, после декрета... Независимая страна..." - Пусть решает сам..." -
"Я думаю, она была бы за такое решение..."
Чувствую, что говорят обо мне. Отец - далекий, благополучный человек.
Стал грузен, обрил бороду, оставив чуть заметный клинышек под губой, как
у
Луначарского. Привез корзину съестных припасов, лекарство - уротропин,
которое в Питере трудно достать, и большую бутылку молока. Мама ничего
не
ест и не пьет. Лежит с закрытыми глазами, иногда лепечет что-то
бессвязное.
Шура, поглядев на меня как-то странно и холодно, сощуриваясь, как он
смотрел на новых людей, оценивая, на что они годятся, говорит: "Отец
предлагает тебе уехать с ним в Гельсингфорс. Как ты на это предложение?"
Никак. Куда я могу теперь уехать. "Не теперь, не сегодня и не завтра, -
шепчет отец. - Я говорю о ближайшем времени, в принципе". У отца
прекрасный теплый костюм из серого сукна в клетку, шерстяные носки и
ботинки на толстой подошве, он сидит, положив ногу на ногу, покачивая
ботинком. Взгляд у отца добрый. Такой проницательный и
сочувственный
сквозь очки, какой бывает у посторонних людей, исполненных добрых
чувств.
Они с Шурой говорят так, будто мамы нет. А мама вдруг разлепила глаза, но
не может посмотреть ни на меня, ни на брата, ни на моего отца, глаза ее
устремлены на наш музейный, в лепнине, закопченный буржуйкою потолок,
и
явственно произносит: "От Шуры никуда не надо..."
Я и так знаю. Мы наклоняемся к ней, хотим дать то, другое, но она опять
не видит, не слышит. Потом приходит Савва с винтовкой, в лентах, с двумя
кобурами на поясе, и с ним бородатенький старичок, доктор, необычайно
малого роста, как гномик. Савва привез его на автомобиле. Этот автомобиль
должен отвезти Шуру в Таврический дворец, где открывается съезд
Советов.
Гномик осматривает маму, ничего не спрашивает, только хмыкает,
покряхтывает, откашливается, как будто тоже болен или только что плотно
поел, а мы четверо стоим вокруг и глядим на него - он перестает быть