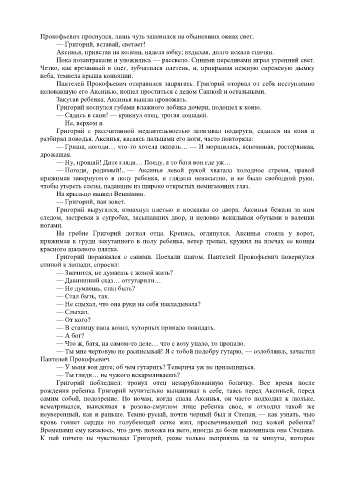Page 118 - Тихий Дон
P. 118
Прокофьевич проснулся, лишь чуть запенился на обыневших окнах свет.
— Григорий, вставай, светает!
Аксинья, привстав на колени, надела юбку; вздыхая, долго искала спички.
Пока позавтракали и уложились — рассвело. Синими переливами играл утренний свет.
Четко, как врезанный в снег, зубчатился плетень, и, прикрывая нежную сиреневую дымку
неба, темнела крыша конюшни.
Пантелей Прокофьевич отправился запрягать. Григорий оторвал от себя исступленно
целовавшую его Аксинью, пошел проститься с дедом Сашкой и остальными.
Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать.
Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню.
— Садись в сани! — крикнул отец, трогая лошадей.
— Не, верхом я.
Григорий с рассчитанной медлительностью затягивал подпруги, садился на коня и
разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла:
— Гриша, погоди… что-то хотела сказать… — И морщилась, вспоминая, растерянная,
дрожащая.
— Ну, прощай! Дите гляди… Поеду, а то батя вон где уж…
— Погоди, родимый!.. — Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой
прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно, и не было свободной руки,
чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых немигающих глаз.
На крыльцо вышел Вениамин.
— Григорий, пан зовет.
Григорий выругался, взмахнул плетью и поскакал со двора. Аксинья бежала за ним
следом, застревая в сугробах, засыпавших двор, и неловко вскидывая обутыми в валенки
ногами.
На гребне Григорий догнал отца. Крепясь, оглянулся. Аксинья стояла у ворот,
прижимая к груди закутанного в полу ребенка, ветер трепал, кружил на плечах ее концы
красного шалевого платка.
Григорий поравнялся с санями. Поехали шагом. Пантелей Прокофьевич повернулся
спиной к лошади, спросил:
— Значится, не думаешь с женой жить?
— Давнишний сказ… отгутарили…
— Не думаешь, стал быть?
— Стал быть, так.
— Не слыхал, что она руки на себя накладывала?
— Слыхал.
— От кого?
— В станицу пана возил, хуторных припало повидать.
— А бог?
— Что ж, батя, на самом-то деле… что с возу упало, то пропало.
— Ты мне чертовую не расписывай! Я с тобой подобру гутарю, — озлобляясь, зачастил
Пантелей Прокофьевич.
— У меня вон дите; об чем гутарить? Теперича уж не прилепишься.
— Ты гляди… не чужого вскармливаешь?
Григорий побледнел: тронул отец незарубцованную болячку. Все время после
рождения ребенка Григорий мучительно вынашивал в себе, таясь перед Аксиньей, перед
самим собой, подозрение. По ночам, когда спала Аксинья, он часто подходил к люльке,
всматривался, выискивая в розово-смуглом лице ребенка свое, и отходил такой же
неуверенный, как и раньше. Темно-русый, почти черный был и Степан, — как узнать, чью
кровь гоняет сердце по голубеющей сетке жил, просвечивающей под кожей ребенка?
Временами ему казалось, что дочь похожа на него, иногда до боли напоминала она Степана.
К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые