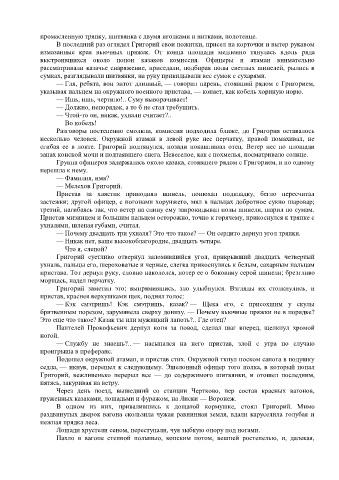Page 122 - Тихий Дон
P. 122
промасленную тряпку, шитвянка с двумя иголками и нитками, полотенце.
В последний раз оглядел Григорий свои пожитки, присел на корточки и вытер рукавом
измазанные края вьючных пряжек. От конца площади медленно тянулась вдоль ряда
выстроившихся около попон казаков комиссия. Офицеры и атаман внимательно
рассматривали казачье снаряжение, приседали, подбирая полы светлых шинелей, рылись в
сумках, разглядывали шитвянки, на руку прикидывали вес сумок с сухарями.
— Гля, ребята, вон энтот длинный, — говорил парень, стоявший рядом с Григорием,
указывая пальцем на окружного военного пристава, — копает, как кобель хориную норю.
— Ишь, ишь, чертило!.. Суму выворачивает!
— Должно, непорядок, а то б не стал требушить.
— Чтой-то он, никак, ухнали считает?..
— Во кобель!
Разговоры постепенно смолкли, комиссия подходила ближе, до Григория оставалось
несколько человек. Окружной атаман в левой руке нес перчатку, правой помахивал, не
сгибая ее в локте. Григорий подтянулся, позади покашливал отец. Ветер нес по площади
запах конской мочи и подтаявшего снега. Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце.
Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному
перешла к нему.
— Фамилия, имя?
— Мелехов Григорий.
Пристав за хлястик приподнял шинель, понюхал подкладку, бегло пересчитал
застежки; другой офицер, с погонами хорунжего, мял в пальцах добротное сукно шаровар;
третий, нагибаясь так, что ветер на спину ему запрокидывал полы шинели, шарил по сумам.
Пристав мизинцем и большим пальцем осторожно, точно к горячему, прикоснулся к тряпке с
ухналями, шлепая губами, считал.
— Почему двадцать три ухналя? Это что такое? — Он сердито дернул угол тряпки.
— Никак нет, ваше высокоблагородие, двадцать четыре.
— Что я, слепой?
Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывший двадцать четвертый
ухналь, пальцы его, шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым, сахарным пальцам
пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели; брезгливо
морщась, надел перчатку.
Григорий заметил это; выпрямившись, зло улыбнулся. Взгляды их столкнулись, и
пристав, краснея верхушками щек, поднял голос:
— Кэк смэтришь! Кэк смэтришь, казак? — Щека его, с присохшим у скулы
бритвенным порезом, зарумянела сверху донизу. — Почему вьючные пряжки не в порядке?
Это еще что такое? Казак ты или мужицкий лапоть?.. Где отец?
Пантелей Прокофьевич дернул коня за повод, сделал шаг вперед, щелкнул хромой
ногой.
— Службу не знаешь?.. — насыпался на него пристав, злой с утра по случаю
проигрыша в преферанс.
Подошел окружной атаман, и пристав стих. Окружной ткнул носком сапога в подушку
седла, — икнув, перешел к следующему. Эшелонный офицер того полка, в который попал
Григорий, вежливенько перерыл все — до содержимого шитвянки, и отошел последним,
пятясь, закуривая на ветру.
Через день поезд, вышедший со станции Чертково, пер состав красных вагонов,
груженных казаками, лошадьми и фуражом, на Лиски — Воронеж.
В одном из них, привалившись к дощатой кормушке, стоял Григорий. Мимо
раздвинутых дверок вагона скользила чужая равнинная земля, вдали каруселила голубая и
нежная прядка леса.
Лошади хрустели сеном, переступали, чуя зыбкую опору под ногами.
Пахло в вагоне степной полынью, конским потом, вешней ростепелью, и, далекая,