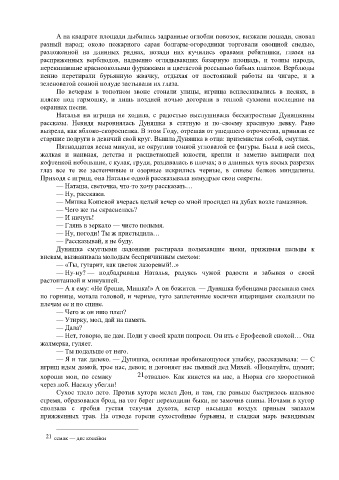Page 125 - Тихий Дон
P. 125
А на квадрате площади дыбились задранные оглобли повозок, визжали лошади, сновал
разный народ; около пожарного сарая болгары-огородники торговали овощной снедью,
разложенной на длинных ряднах, позади них кучились оравами ребятишки, глазея на
распряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь, и толпы народа,
перекипавшие краснооколыми фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды
пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чигаре, и в
зеленоватой сонной полуде застывали их глаза.
По вечерам в топотном звоне стонали улицы, игрища всплескивались в песнях, в
пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмени последние на
окраинах песни.
Наталья на игрища не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные Дуняшкины
рассказы. Невидя выровнялась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано
вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом Году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее
старшие подруги в девичий свой круг. Вышла Дуняшка в отца: приземистая собой, смуглая.
Пятнадцатая весна минула, не округлив тонкой угловатой ее фигуры. Была в ней смесь,
жалкая и наивная, детства и расцветающей юности, крепли и заметно выпирали под
кофтенкой небольшие, с кулак, груди, раздавалась в плечах; а в длинных чуть косых разрезах
глаз все те же застенчивые и озорные искрились черные, в синеве белков миндалины.
Приходя с игрищ, она Наталье одной рассказывала немудрые свои секреты.
— Наташа, светочка, что-то хочу рассказать…
— Ну, расскажи.
— Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возле гамазинов.
— Чего же ты скраснелась?
— И ничуть!
— Глянь в зеркало — чисто полымя.
— Ну, погоди! Ты ж пристыдила…
— Рассказывай, я не буду.
Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки, прижимая пальцы к
вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом:
— «Ты, гутарит, как цветок лазоревый!..»
— Ну-ну? — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей
растоптанной и минувшей.
— А я ему: «Не бреши, Мишка!» А он божится. — Дуняшка бубенцами рассыпала смех
по горнице, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по
плечам ее и по спине.
— Чего ж он ишо плел?
— Утирку, мол, дай на память.
— Дала?
— Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ить с Ерофеевой снохой… Она
жалмерка, гуляет.
— Ты подальше от него.
— Я и так далеко. — Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала: — С
игрищ идем домой, трое нас, девок; и догоняет нас пьяный дед Михей. «Поцелуйте, шумит;
хороши мои, по семаку 21 отвалю». Как кинется на нас, а Нюрка его хворостиной
через лоб. Насилу убегли!
Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное
стремя, образовался брод, на тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор
сползала с гребня густая текучая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом
прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым
21 семак — две копейки