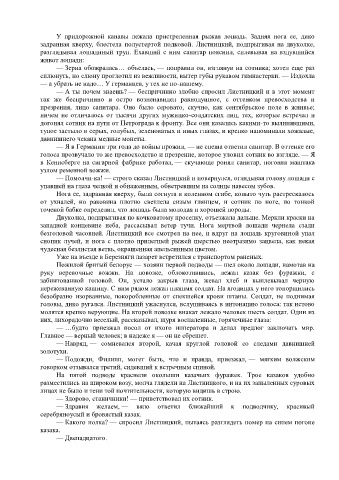Page 179 - Тихий Дон
P. 179
У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико
задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке,
разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся
живот лошади:
— Зерна обожралась… объелась, — поправил он, взглянув на сотника; хотел еще раз
сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки. — Издохла
— а убрать не надо… У германцев, у тех не по-нашему.
— А ты почем знаешь? — беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент
так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и
презрения, лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жнивье;
ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и
догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то вылинявшими,
тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали хожалые,
давнишнего чекана медные монеты.
— Я в Германии три года до войны прожил, — не спеша ответил санитар. В оттенке его
голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде. — Я
в Кенисберге на сигарной фабрике работал, — скучающе ронял санитар, погоняя маштака
узлом ременной вожжи.
— Помолчи-ка! — строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с
упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветревшим на солнце навесом зубов.
Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось
от ухналей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонкой
точеной бабке определил, что лошадь была молодая и хорошей породы.
Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на
западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади
безголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал
снопик лучей, и нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо зацвела, как некая
чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом.
Уже на въезде в Березняги лазарет встретился с транспортом раненых.
Пожилой бритый белорус — хозяин первой подводы — шел около лошади, намотав на
руку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки, с
забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную
пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились
безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая
головы, дико ругался. Листницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонацию голоса: так истово
молятся крепко верующие. На второй повозке внакат лежало человек шесть солдат. Один из
них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные, горячечные глаза:
— …будто приезжал посол от ихого инператора и делал предлог заключать мир.
Главное — верный человек; в надеже я — он не сбрешет.
— Навряд, — сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней
золотухи.
— Подожди, Филипп, могет быть, что и правда, приезжал, — мягким волжским
говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной.
На пятой подводе краснели околыши казачьих фуражек. Трое казаков удобно
разместились на широком возу, молча глядели на Листницкого, и на их запыленных суровых
лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю.
— Здорово, станичники! — приветствовал их сотник.
— Здравия желаем, — вяло ответил ближайший к подводчику, красивый
серебряноусый и бровястый казак.
— Какого полка? — спросил Листницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне
казака.
— Двенадцатого.