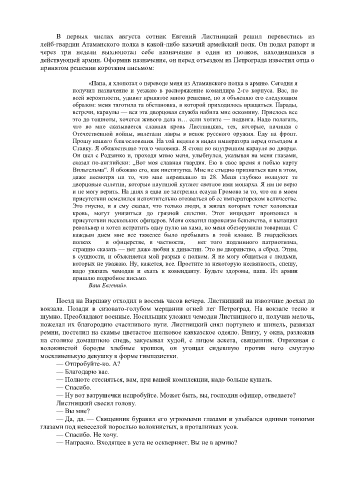Page 177 - Тихий Дон
P. 177
В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил перевестись из
лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и
через три недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в
действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петрограда известил отца о
принятом решении коротким письмом:
«Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я
получил назначение и уезжаю в распоряжение командира 2-го корпуса. Вас, по
всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим
образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады,
встречи, караулы — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все
это до тошноты, хочется живого дела и… если хотите — подвига. Надо полагать,
что во мне сказывается славная кровь Листницких, тех, которые, начиная с
Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт.
Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в
Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце.
Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами,
сказал по-английски: „Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту
Вильгельма“. Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом,
даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те
дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю
и не могу верить. На днях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем
присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве.
Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская
кровь, могут унизиться до грязной сплетни. Этот инцидент произошел в
присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил
револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С
каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских
полках — в офицерстве, в частности, — нет того подлинного патриотизма,
страшно сказать — нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим,
в сущности, и объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми,
которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу,
надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа. Из армии
пришлю подробное письмо.
Ваш Евгений».
Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до
вокзала. Позади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петроград. На вокзале тесно и
шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь,
пожелал их благородию счастливого пути. Листницкий снял портупею и шинель, развязал
ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу, у окна, разложив
на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхивая с
волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую
москлявенькую девушку в форме гимназистки.
— Отпробуйте-ко. А?
— Благодарю вас.
— Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать.
— Спасибо.
— Ну вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете?
Листницкий свесил голову.
— Вы мне?
— Да, да. — Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими
глазами под невеселой порослью волокнистых, в проталинках усов.
— Спасибо. Не хочу.
— Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию?