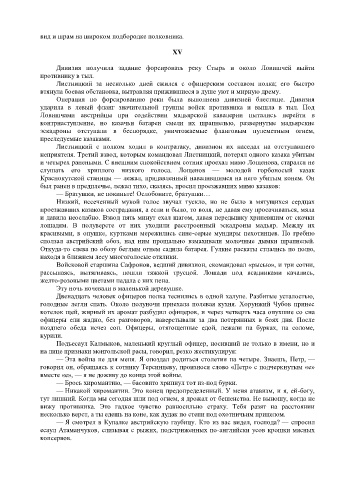Page 181 - Тихий Дон
P. 181
вид и шрам на широком подбородке полковника.
XV
Дивизия получила задание форсировать реку Стырь и около Ловишчей выйти
противнику в тыл.
Листницкий за несколько дней сжился с офицерским составом полка; его быстро
втянула боевая обстановка, вытравляя прижившиеся в душе уют и мирную дрему.
Операция по форсированию реки была выполнена дивизией блестяще. Дивизия
ударила в левый фланг значительной группы войск противника и вышла в тыл. Под
Ловишчами австрийцы при содействии мадьярской кавалерии пытались перейти в
контрнаступление, но казачьи батареи смели их шрапнелью, развернутые мадьярские
эскадроны отступали в беспорядке, уничтожаемые фланговым пулеметным огнем,
преследуемые казаками.
Листницкий с полком ходил в контратаку, дивизион их наседал на отступавшего
неприятеля. Третий взвод, которым командовал Листницкий, потерял одного казака убитым
и четырех ранеными. С внешним спокойствием сотник проехал мимо Лощенова, старался не
слушать его хриплого низкого голоса. Лощенов — молодой горбоносый казак
Краснокутской станицы — лежал, придавленный навалившимся на него убитым конем. Он
был ранен в предплечье, лежал тихо, скалясь, просил проезжавших мимо казаков:
— Братушки, не покиньте! Ослобоните, братушки…
Низкий, иссеченный мукой голос звучал тускло, но не было в мятущихся сердцах
проезжавших казаков сострадания, а если и было, то воля, не давая ему просачиваться, мяла
и давила неослабно. Взвод пять минут ехал шагом, давая передышку хрипевшим от скачки
лошадям. В полуверсте от них уходили расстроенный эскадроны мадьяр. Между их
красивыми, в опушке, куртками мережились сине-серые мундиры пехотинцев. По гребню
сползал австрийский обоз, над ним прощально взмахивали молочные дымки шрапнелей.
Откуда-то слева по обозу беглым огнем садила батарея. Гулкие раскаты стлались по полю,
находя в ближнем лесу многоголосые отклики.
Войсковой старшина Сафронов, ведший дивизион, скомандовал «рысью», и три сотни,
рассыпаясь, вытягиваясь, пошли тяжкой трусцой. Лошади под всадниками качались,
желто-розовыми цветами падала с них пена.
Эту ночь ночевали в маленькой деревушке.
Двенадцать человек офицеров полка теснились в одной халупе. Разбитые усталостью,
голодные легли спать. Около полуночи приехала полевая кухня. Хорунжий Чубов принес
котелок щей, жирный их аромат разбудил офицеров, и через четверть часа опухшие со сна
офицеры ели жадно, без разговоров, наверстывали за два потерянных в боях дня. После
позднего обеда исчез сон. Офицеры, отягощенные едой, лежали на бурках, на соломе,
курили.
Подъесаул Калмыков, маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и
на лице признаки монгольской расы, говорил, резко жестикулируя:
— Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре. Знаешь, Петр, —
говорил он, обращаясь к сотнику Терсинцеву, произнося слово «Петр» с подчеркнутым «е»
вместе «е», — я не доживу до конца этой войны.
— Брось хиромантию, — басовито хрипнул тот из-под бурки.
— Никакой хиромантии. Это конец предопределенный. У меня атавизм, и я, ей-богу,
тут лишний. Когда мы сегодня шли под огнем, я дрожал от бешенства. Не выношу, когда не
вижу противника. Это гадкое чувство равносильно страху. Тебя разят на расстоянии
несколько верст, а ты едешь на коне, как дудак по степи под охотничьим прицелом.
— Я смотрел в Купалке австрийскую гаубицу. Кто из вас видел, господа? — спросил
есаул Атаманчуков, слизывая с рыжих, подстриженных по-английски усов крошки мясных
консервов.