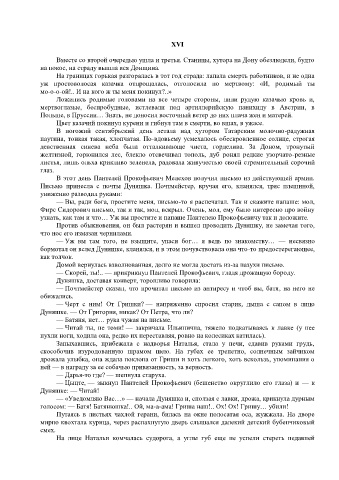Page 185 - Тихий Дон
P. 185
XVI
Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдели, будто
на покос, на страду вышла вся Донщина.
На границах горькая разгоралась в тот год страда: лапала смерть работников, и не одна
уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по мертвому: «И, родимый ты
мо-о-о-ой!.. И на кого ж ты меня покинул?..»
Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и,
мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в
Польше, в Пруссии… Знать, не доносил восточный ветер до них плача жен и матерей.
Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе.
В погожий сентябрьский день летала над хутором Татарским молочно-радужная
паутина, тонкая такая, хлопчатая. По-вдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгая
девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый
желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные
листья, лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий
глаз.
В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии.
Письмо принесла с почты Дуняшка. Почтмейстер, вручая его, кланялся, тряс плешиной,
униженно разводил руками:
— Вы, ради бога, простите меня, письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше: мол,
Фирс Сидорович письмо, так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну
узнать, как там и что… Уж вы простите и папаше Пантелею Прокофьевичу так и доложите.
Против обыкновения, он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того,
что нос его измазан чернилами.
— Уж вы там того, не взыщите, упаси бог… я ведь по знакомству… — несвязно
бормотал он вслед Дуняшке, кланялся, и в этом почувствовала она что-то предостерегающее,
как толчок.
Домой вернулась взволнованная, долго не могла достать из-за пазухи письмо.
— Скорей, ты!.. — прикрикнул Пантелей Прокофьевич, гладя дрожащую бороду.
Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила:
— Почтмейстер сказал, что прочитал письмо из антиресу и чтоб вы, батя, на него не
обижались.
— Черт с ним! От Гришки? — напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо
Дуняшке. — От Григория, никак? От Петра, что ли?
— Батяня, нет… рука чужая на письме.
— Читай ты, не томи! — закричала Ильинична, тяжело подкатываясь к лавке (у нее
пухли ноги, ходила она, редко их переставляя, ровно на колесиках катилась).
Запыхавшись, прибежала с надворья Наталья, стала у печи, сдавив руками грудь,
скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком
дрожала улыбка, она ждала поклона от Гриши и хоть легкого, хоть вскользь, упоминания о
ней — в награду за ее собачью привязанность, за верность.
— Дарья-то где? — шепнула старуха.
— Цыцте, — зыкнул Пантелей Прокофьевич (бешенство округлило его глаза) и — к
Дуняшке: — Читай!
— «Уведомляю Вас…» — начала Дуняшка и, сползая с лавки, дрожа, крикнула дурным
голосом: — Батя! Батянюшка!.. Ой, ма-а-ама! Гриша наш!.. Ох! Ох! Гришу… убили!
Путаясь в листьях чахлой герани, билась на окне полосатая оса, жужжала. На дворе
мирно квохтала курица, через распахнутую дверь слышался далекий детский бубенчиковый
смех.
На лице Натальи комчалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней