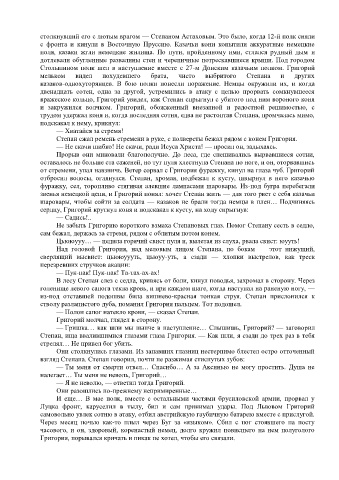Page 235 - Тихий Дон
P. 235
столкнувший его с лютым врагом — Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли
с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратные немецкие
поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудный дым и
дотлевали обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом
Столыпином полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий
мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других
казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их, и когда
двенадцать сотен, одна за другой, устремились в атаку с целью прорвать сомкнувшееся
вражеское кольцо, Григорий увидел, как Степан спрыгнул с убитого под ним вороного коня
и закружился волчком. Григорий, обожженный внезапной и радостной решимостью, с
трудом удержал коня и, когда последняя сотня, едва не растоптав Степана, промчалась мимо,
подскакал к нему, крикнул:
— Хватайся за стремя!
Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория.
— Не скачи шибко! Не скачи, ради Исуса Христа! — просил он, задыхаясь.
Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни,
оставалось не больше ста саженей, но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись
от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Григорий
отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью
фуражку, сел, торопливо стягивая алевшие лампасами шаровары. Из-под бугра перебегали
звенья немецкой цепи, и Григорий понял: хочет Степан жить — для того рвет с себя казачьи
шаровары, чтобы сойти за солдата — казаков не брали тогда немцы в плен… Подчиняясь
сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув:
— Садись!..
Не забыть Григорию короткого взмаха Степановых глаз. Помог Степану сесть в седло,
сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем.
Цьююууу… — цедила горячий свист пуля и, вылетая из слуха, рвала свист: юууть!
Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам — этот нижущий,
сверлящий высвист: цьююуууть, цьюуу-уть, а сзади — хлопки выстрелов, как треск
перезревших стручков акации:
— Пук-пак! Пук-пак! Та-тах-ах-ах!
В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли, кинул поводья, захромал в сторону. Через
голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, —
из-под отставшей подошвы била вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к
стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел.
— Полон сапог натекло крови, — сказал Степан.
Григорий молчал, глядел в сторону.
— Гришка… как шли мы нынче в наступление… Слышишь, Григорий? — заговорил
Степан, ища ввалившимися глазами глаза Григория. — Как шли, я сзади до трех раз в тебя
стрелял… Не привел бог убить.
Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро отточенный
взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых зубов:
— Ты меня от смерти отвел… Спасибо… А за Аксинью не могу простить. Душа не
налегает… Ты меня не неволь, Григорий…
— Я не неволю, — ответил тогда Григорий.
Они разошлись по-прежнему непримиренные…
И еще… В мае полк, вместе с остальными частями брусиловской армии, прорвал у
Луцка фронт, каруселил в тылу, бил и сам принимал удары. Под Львовом Григорий
самовольно увлек сотню в атаку, отбил австрийскую гаубичную батарею вместе с прислугой.
Через месяц ночью как-то плыл через Буг за «языком». Сбил с ног стоявшего на посту
часового, и он, здоровый, коренастый немец, долго кружил повисшего на нем полуголого
Григория, порывался кричать и никак не хотел, чтобы его связали.