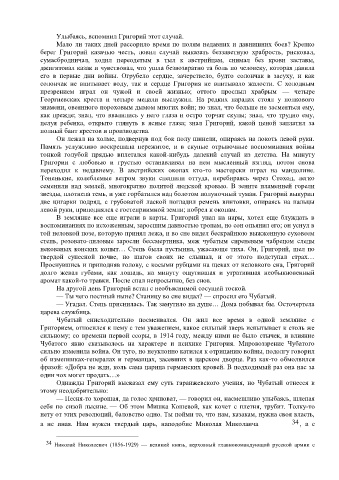Page 236 - Тихий Дон
P. 236
Улыбаясь, вспомнил Григорий этот случай.
Мало ли таких дней рассорило время по полям недавних и давнишних боев? Крепко
берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал,
сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы,
джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила
его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как
солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным
презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре
Георгиевских креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового
знамени, овеянного пороховым дымом многих войн; но знал, что больше не засмеяться ему,
как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы; знал, что трудно ему,
целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за
полный бант крестов и производства.
Он лежал на холме, подвернув под бок полу шинели, опираясь на локоть левой руки.
Память услужливо воскрешала пережитое, и в скупые отрывочные воспоминания войны
тонкой голубой прядью вплетался какой-нибудь далекий случай из детства. На минуту
Григории с любовью и грустью останавливал на нем мысленный взгляд, потом снова
переходил к недавнему. В австрийских окопах кто-то мастерски играл на мандолине.
Тоненькие, колеблемые ветром звуки спешили оттуда, перебираясь через Стоход, легко
семенили над землей, многократно политой людской кровью. В зените пламенней горели
звезды, плотнела темь, и уже горбатился над болотом полуночный туман. Григорий выкурил
две цигарки подряд, с грубоватой лаской погладил ремень винтовки, опираясь на пальцы
левой руки, приподнялся с гостеприимной земли; побрел к окопам.
В землянке все еще играли в карты. Григорий упал на нары, хотел еще блуждать в
воспоминаниях по исхоженным, заросшим давностью тропам, но сон опьянил его; он уснул в
той неловкой позе, которую принял лежа, и во сне видел бескрайнюю выжженную суховеем
степь, розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чабрецом следы
некованых конских копыт… Степь была пустынна, ужасающе тиха. Он, Григорий, шел по
твердой супесной почве, но шагов своих не слышал, и от этого подступал страх…
Проснувшись и приподняв голову, с косыми рубцами на щеках от неловкого сна, Григорий
долго жевал губами, как лошадь, на минуту ощутившая и утратившая необыкновенный
аромат какой-то травки. После спал непросыпно, без снов.
На другой день Григорий встал с необъяснимой сосущей тоской.
— Ты чего постный ныне? Станицу во сне видал? — спросил его Чубатый.
— Угадал. Степь приснилась. Так замутило на душе… Дома побывал бы. Осточертела
царева службица.
Чубатый снисходительно посмеивался. Он жил все время в одной землянке с
Григорием, относился к нему с тем уважением, какое сильный зверь испытывает к столь же
сильному; со времени первой ссоры, в 1914 году, между ними не было стычек, и влияние
Чубатого явно сказывалось на характере и психике Григория. Мировоззрение Чубатого
сильно изменила война. Он туго, но неуклонно катился к отрицанию войны, подолгу говорил
об изменниках-генералах и германцах, засевших в царском дворце. Раз как-то обмолвился
фразой: «Добра не жди, коль сама царица германских кровей. В подходимый раз она нас за
один чох могет продать…»
Однажды Григорий высказал ему суть гаранжевского учения, но Чубатый отнесся к
этому неодобрительно:
— Песня-то хорошая, да голос хриповат, — говорил он, насмешливо улыбаясь, шлепая
себя по сизой лысине. — Об этом Мишка Кошевой, как кочет с плетня, трубит. Толку-то
нету от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, что нам, казакам, нужна своя власть,
а не иная. Нам нужен твердый царь, наподобие Миколая Миколаича 34 , а с
34 Николай Николаевич (1856-1929) — великий князь, верховный главнокомандующий русской армии с