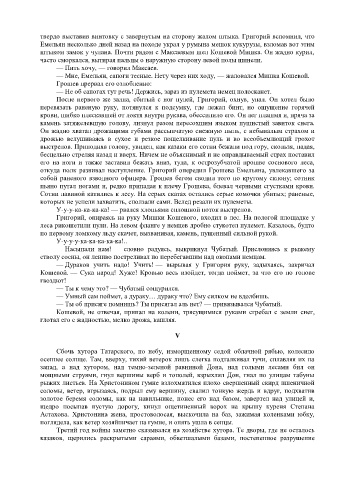Page 240 - Тихий Дон
P. 240
твердо выставив винтовку с завернутым на сторону жалом штыка. Григорий вспомнил, что
Емельян несколько дней назад на походе украл у румына мешок кукурузы, взломав вот этим
штыком замок у чулана. Почти рядом с Максаевым шел Кошевой Мишка. Он жадно курил,
часто сморкался, вытирая пальцы о наружную сторону левой полы шинели.
— Пить хочу, — говорил Максаев.
— Мне, Емельян, сапоги тесные. Нету через них ходу, — жаловался Мишка Кошевой.
Грошев прервал его озлобленно:
— Не об сапогах тут речь! Держись, зараз из пулемета немец полосканет.
После первого же залпа, сбитый с ног пулей, Григорий, охнув, упал. Он хотел было
перевязать раненую руку, потянулся к подсумку, где лежал бинт, но ощущение горячей
крови, шибко плескавшей от локтя внутри рукава, обессилило его. Он лег плашмя и, пряча за
камень затяжелевшую голову, лизнул разом пересохшим языком пушистый завиток снега.
Он жадно хватал дрожащими губами рассыпчатую снежную пыль, с небывалым страхом и
дрожью вслушиваясь в сухое и резкое пощелкивание пуль и во всеобъемлющий грохот
выстрелов. Приподняв голову, увидел, как казаки его сотни бежали под гору, скользя, падая,
бесцельно стреляя назад и вверх. Ничем не объяснимый и не оправдываемый страх поставил
его на ноги и также заставил бежать вниз, туда, к острозубчатой прошве соснового леса,
откуда полк развивал наступление. Григорий опередил Грошева Емельяна, увлекавшего за
собой раненого взводного офицера. Грошев бегом сводил того по крутому склону; сотник
пьяно путал ногами и, редко припадая к плечу Грошева, блевал черными сгустками крови.
Сотни лавиной катились к лесу. На серых скатах остались серые комочки убитых; раненые,
которых не успели захватить, сползали сами. Вслед резали их пулеметы.
У-у-у-ка-ка-ка-ка! — рвался хлопьями сплошной поток выстрелов.
Григорий, опираясь на руку Мишки Кошевого, входил в лес. На пологой площадке у
леса рикошетили пули. На левом фланге у немцев дробно стукотел пулемет. Казалось, будто
по первому ломкому льду скачет, вызванивая, камень, пущенный сильной рукой.
У-у-у-у-ка-ка-ка-ка-ка!..
— Насыпали нам! — словно радуясь, выкрикнул Чубатый. Прислоняясь к рыжему
стволу сосны, он лениво постреливал по перебегавшим над окопами немцам.
— Дураков учить надо! Учить! — вырывая у Григория руку, задыхаясь, закричал
Кошевой. — Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за что его по голове
гвоздют!
— Ты к чему это? — Чубатый сощурился.
— Умный сам поймет, а дураку… дураку что? Ему силком не вдолбишь.
— Ты об присяге помнишь? Ты присягал аль нет? — привязывался Чубатый.
Кошевой, не отвечая, припал на колени, трясущимися руками сгребал с земли снег,
глотал его с жадностью, мелко дрожа, кашляя.
V
Сбочь хутора Татарского, по небу, изморщенному седой облачной рябью, колесило
осеннее солнце. Там, вверху, тихий ветерок лишь слегка подталкивал тучи, сплавляя их на
запад, а над хутором, над темно-зеленой равниной Дона, над голыми лесами бил он
мощными струями, гнул вершины верб и тополей, взрыхлял Дон, гнал по улицам табуны
рыжих листьев. На Христонином гумне взлохматился плохо свершенный скирд пшеничной
соломы, ветер, вгрызаясь, подрыл ему вершину, свалил тонкую жердь и вдруг, подхватив
золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицей и,
щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу куреня Степана
Астахова. Христонина жена, простоволосая, выскочила на баз, зажимая коленками юбку,
поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы.
Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось
казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами, постепенное разрушение