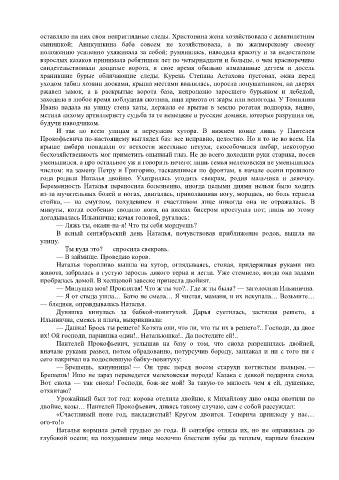Page 241 - Тихий Дон
P. 241
оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с девятилетним
сынишкой; Аникушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему
положению усиленно ухаживала за собой; румянилась, наводила красоту и за недостатком
взрослых казаков принимала ребятишек лет по четырнадцати и больше, о чем красноречиво
свидетельствовали дощатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель
хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал, окна перед
уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях
ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном и лебедой,
заходила в любое время поблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. У Томилина
Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка, видно,
мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он,
будучи наводчиком.
И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея
Прокофьевича по-настоящему выглядел баз: все исправно, целостно. Но и то не во всем. На
крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи, скособочился амбар, некоторую
бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика, посев
уменьшился, а про остальное уж и говорить нечего; лишь семья мелеховская не уменьшилась
числом: на замену Петру и Григорию, таскавшимся по фронтам, в начале осени прошлого
года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку.
Беременность Наталья переносила болезненно, иногда целыми днями нельзя было ходить
из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль терпела
стойко, — на смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В
минуты, когда особенно сводило ноги, на висках бисером проступал пот; лишь по этому
догадывалась Ильинична; качая головой, ругалась:
— Ляжь ты, окаян-на-я! Что ты себя мордуешь?
В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на
улицу.
— Ты куда это? — спросила свекровь.
— В займище. Проведаю коров.
Наталья торопливо вышла на хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ
живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она задами
пробралась домой. В холщовой завеске принесла двойнят.
— Милушка моя! Проклятая! Что ж ты это?.. Где ж ты была? — заголосила Ильинична.
— Я от стыда ушла… Батю не смела… Я чистая, маманя, и их искупала… Возьмите…
— бледнея, оправдывалась Наталья.
Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а
Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала:
— Дашка! Брось ты решето! Котята они, что ли, что ты их в решето?.. Господи, да двое
их! Ой господи, парнишка один!.. Натальюшка!.. Да постелите ей!..
Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней,
вначале руками развел, потом обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с
сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху:
— Брешешь, канунница! — Он тряс перед носом старухи когтистым пальцем. —
Брешешь! Ишо не зараз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха.
Вот сноха — так сноха! Господи, бож-же мой! За такую-то милость чем я ей, душеньке,
отхвитаю?
Урожайный был тот год: корова отелила двойню, к Михайлову дню овцы окотили по
двойне, козы… Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собой рассуждал:
«Счастливый ноне год, накладистый! Кругом двоится. Теперича приплоду у нас…
ого-го!»
Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до
глубокой осени; на похудевшем лице молочно блестели зубы да теплым, парным блеском