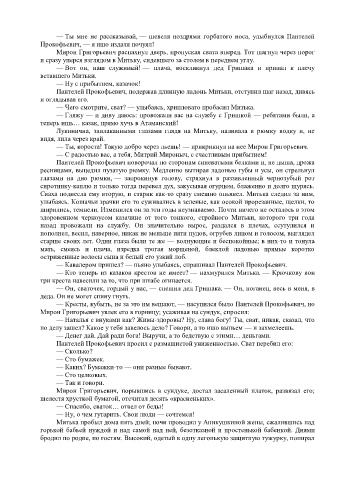Page 246 - Тихий Дон
P. 246
— Ты мне не рассказывай, — шевеля ноздрями горбатого носа, улыбнулся Пантелей
Прокофьевич, — я ишо издаля почуял!
Мирон Григорьевич распахнул дверь, пропуская свата вперед. Тот шагнул через порог
и сразу уперся взглядом в Митьку, сидевшего за столом в переднем углу.
— Вот он, наш служивый! — плача, воскликнул дед Гришака и припал к плечу
вставшего Митьки.
— Ну с прибытием, казачок!
Пантелей Прокофьевич, подержав длинную ладонь Митьки, отступил шаг назад, дивясь
и оглядывая его.
— Чего смотрите, сват? — улыбаясь, хрипловато пробасил Митька.
— Гляжу — и диву даюсь: провожали вас на службу с Гришкой — ребятами были, а
теперь ишь… казак, прямо хучь в Атаманский!
Лукинична, заплаканными глазами глядя на Митьку, наливала в рюмку водку и, не
видя, лила через край.
— Ты, короста! Такую добро через льешь! — прикрикнул на нее Мирон Григорьевич.
— С радостью вас, а тебя, Митрий Мироныч, с счастливым прибытием!
Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, дрожа
ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул
глазами на дно рюмки, — запрокинув голову, стряхнул в раззявленный чернозубый рот
сиротинку-каплю и только тогда перевел дух, закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь.
Сваха поднесла ему вторую, и старик как-то сразу смешно опьянел. Митька следил за ним,
улыбаясь. Кошачьи зрачки его то суживались в зеленые, как осокой прорезанные, щелки, то
ширились, темнели. Изменился он за эти годы неузнаваемо. Почти ничего не осталось в этом
здоровенном черноусом казачине от того тонкого, стройного Митьки, которого три года
назад провожали на службу. Он значительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и
пополнел, весил, наверное, никак не меньше пяти пудов, огрубев лицом и голосом, выглядел
старше своих лет. Одни глаза были те же — волнующие и беспокойные; в них-то и тонула
мать, смеясь и плача, изредка трогая морщеной, блеклой ладонью прямые коротко
остриженные волосы сына и белый его узкий лоб.
— Кавалером пришел? — пьяно улыбаясь, спрашивал Пантелей Прокофьевич.
— Кто теперь из казаков крестов не имеет? — нахмурился Митька. — Крючкову вон
три креста навесили за то, что при штабе огинается.
— Он, сваточек, гордый у нас, — спешил дед Гришака. — Он, поганец, весь в меня, в
деда. Он не могет спину гнуть.
— Кресты, кубыть, не за это им вешают, — насупился было Пантелей Прокофьевич, но
Мирон Григорьевич увлек его в горницу; усаживая на сундук, спросил:
— Наталья с внуками как? Живы-здоровы? Ну, слава богу! Ты, сват, никак, сказал, что
по делу зашел? Какое у тебя завелось дело? Говори, а то ишо выпьем — и захмелеешь.
— Денег дай. Дай ради бога! Выручи, а то бедствую с этими… деньгами.
Пантелей Прокофьевич просил с размашистой униженностью. Сват перебил его:
— Сколько?
— Сто бумажек.
— Каких? Бумажки-то — они разные бывают.
— Сто целковых.
— Так и говори.
Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный платок, развязал его;
шелестя хрусткой бумагой, отсчитал десять «красненьких».
— Спасибо, сваток… отвел от беды!
— Ну, о чем гутарить. Свои люди — сочтемся!
Митька пробыл дома пять дней; ночи проводил у Аникушкиной жены, сжалившись над
горькой бабьей нуждой и над самой над ней, безотказной и простенькой бабенкой. Днями
бродил по родне, по гостям. Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, попирал