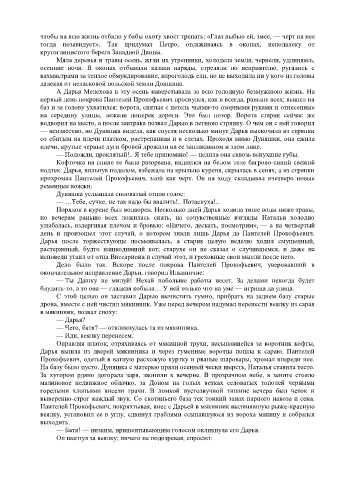Page 243 - Тихий Дон
P. 243
чтобы на всю жизнь отбило у бабы охоту хвост трепать: «Глаз выбью ей, змее, — черт на нее
тогда позавидует». Так придумал Петро, отсиживаясь в окопах, неподалеку от
крутоглинистого берега Западной Двины.
Мяла деревья и травы осень, жгли их утренники, холодела земля, чернели, удлиняясь,
осенние ночи. В окопах отбывали казаки наряды, стреляли по неприятелю, ругались с
вахмистрами за теплое обмундирование, впроголодь ели, но не выходила ни у кого из головы
далекая от неласковой польской земли Донщина.
А Дарья Мелехова в эту осень наверстывала за всю голодную безмужнюю жизнь. На
первый день покрова Пантелей Прокофьевич проснулся, как и всегда, раньше всех; вышел на
баз и за голову ухватился: ворота, снятые с петель чьими-то озорными руками и отнесенные
на середину улицы, лежали поперек дороги. Это был позор. Ворота старик сейчас же
водворил на место, а после завтрака позвал Дарью в летнюю стряпку. О чем он с ней говорил
— неизвестно, но Дуняшка видела, как спустя несколько минут Дарья выскочила из стряпки
со сбитым на плечи платком, растрепанная и в слезах. Проходя мимо Дуняшки, она ежила
плечи, крутые черные дуги бровей дрожали на ее заплаканном и злом лице.
— Подожди, проклятый!.. Я тебе припомню! — цедила она сквозь вспухшие губы.
Кофточка на спине ее была разорвана, виднелся на белом теле багрово-синий свежий
подтек. Дарья, вильнув подолом, взбежала на крыльцо куреня, скрылась в сенях, а из стряпки
прохромал Пантелей Прокофьевич, злой как черт. Он на ходу складывал вчетверо новые
ременные вожжи.
Дуняшка услышала сиповатый отцов голос:
— …Тебе, сучке, не так надо бы ввалить!.. Потаскуха!..
Порядок в курене был водворен. Несколько дней Дарья ходила тише воды ниже травы,
по вечерам раньше всех ложилась спать, на сочувственные взгляды Натальи холодно
улыбалась, вздергивая плечом и бровью: «Ничего, дескать, посмотрим», — а на четвертый
день и произошел этот случай, о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич.
Дарья после торжествующе посмеивалась, а старик целую неделю ходил смущенный,
растерянный, будто нашкодивший кот; старухе он не сказал о случившемся, и даже на
исповеди утаил от отца Виссариона и случай этот, и греховные свои мысли после него.
Дело было так. Вскоре после покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в
окончательное исправление Дарьи, говорил Ильиничне:
— Ты Дашку не милуй! Нехай побольше работы несет. За делами некогда будет
блудить-то, а то она — гладкая кобыла… У ней только что на уме — игрища да улица.
С этой целью он заставил Дарью вычистить гумно, прибрать на заднем базу старые
дрова, вместе с ней чистил мякинник. Уже перед вечером надумал перенести веялку из сарая
в мякинник, позвал сноху:
— Дарья?
— Чего, батя? — откликнулась та из мякинника.
— Иди, веялку перенесем.
Оправляя платок, отряхиваясь от мякинной трухи, насыпавшейся за воротник кофты,
Дарья вышла из дверей мякинника и через гуменные воротца пошла к сараю. Пантелей
Прокофьевич, одетый в ватную расхожую куртку и рваные шаровары, хромал впереди нее.
На базу было пусто. Дуняшка с матерью пряли осенней чески шерсть, Наталья ставила тесто.
За хутором рдяно догорала заря, звонили к вечерне. В прозрачном небе, в зените стояло
малиновое недвижное облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными
горелыми хлопьями висели грачи. В ломкой пустозвучной тишине вечера был четок и
выверенно-строг каждый звук. Со скотиньего база тек тонкий запах парного навоза и сена.
Пантелей Прокофьевич, покряхтывая, внес с Дарьей в мякинник вылинявшую рыже-красную
веялку, установил ее в углу, сдвинул граблями ссыпавшуюся из вороха мякину и собрался
выходить.
— Батя! — низким, пришептывающим голосом окликнула его Дарья.
Он шагнул за веялку; ничего не подозревая, спросил: