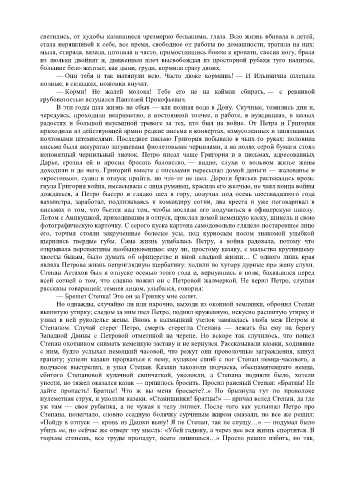Page 242 - Тихий Дон
P. 242
светились, от худобы казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбивала в детей,
стала неряшливей к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них:
мыла, стирала, вязала, штопала и часто, примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала
из люльки двойнят и, движением плеч высвобождая из просторной рубахи туго налитые,
большие бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих.
— Они тебя и так вытянули всю. Часто дюже кормишь! — И Ильинична шлепала
полные, в складках, ножонки внучат.
— Корми! Не жалей молока! Тебе его не на каймак сбирать, — с ревнивой
грубоватостью вступался Пантелей Прокофьевич.
В эти годы шла жизнь на сбыв — как полная вода в Дону. Скучные, томились дни и,
чередуясь, проходили неприметно, в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых
радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория
приходили из действующей армии редкие письма в конвертах, измусоленных и запятнанных
почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках: половина
письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял
непонятный чернильный значок. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных
Дарье, грозил ей и просил бросать баловство, — видно, слухи о вольном житье жены
доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги — жалованье и
«крестовые», сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь:
гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны
дождаться, а Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень шестнадцатого года
вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста и уже поговаривал в
письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу.
Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск, прислал домой немецкую каску, шинель и свою
фотографическую карточку. С серого куска картона самодовольно глядело постаревшее лицо
его, торчмя стояли закрученные белесые усы, под курносым носом знакомой улыбкой
щерились твердые губы. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала, потому что
открывала перспективы необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему
хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни… С одного лишь края
являла Петрова жизнь неприглядную щербатину: ходили по хутору дурные про жену слухи.
Степан Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед
всей сотней о том, что славно пожил он с Петровой жалмеркой. Не верил Петро, слушая
рассказы товарищей; темнея лицом, улыбался, говорил:
— Брешет Степка! Это он за Гришку мне солит.
Но однажды, случайно ли или нарочно, выходя из окопной землянки, обронил Степан
вышитую утирку; следом за ним шел Петро, поднял кружевную, искусно расшитую утирку и
узнал в ней рукоделье жены. Вновь в калмыцкий узелок завязалась злоба меж Петром и
Степаном. Случай стерег Петро, смерть стерегла Степана — лежать бы ему на берегу
Западной Двины с Петровой отметиной на черепе. Но вскоре так случилось, что пошел
Степан охотником снимать немецкую заставу и не вернулся. Рассказывали казаки, ходившие
с ним, будто услыхал немецкий часовой, что режут они проволочные заграждения, кинул
гранату; успели казаки прорваться к нему, кулаком сшиб с ног Степан немца-часового, а
подчасок выстрелил, и упал Степан. Казаки закололи подчаска, обеспамятевшего немца,
сбитого Степановой кулачной свинчаткой, уволокли, а Степана подняли было, хотели
унести, но тяжел оказался казак — пришлось бросить. Просил раненый Степан: «Братцы! Не
дайте пропасть! Братцы! Что ж вы меня бросаете?..» Но брызнула тут по проволоке
пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники! Братцы!» — кричал вслед Степан, да где
уж там — своя рубашка, а не чужая к телу липнет. После того как услышал Петро про
Степана, полегчало, словно ссадную болячку сурчиным жиром смазали, но все же решил:
«Пойду в отпуск — кровь из Дашки выну! Я не Степан, так не спущу…» — подумал было
убить ее, но сейчас же отверг эту мысль: «Убей гадюку, а через нее вся жизнь спортится. В
тюрьме сгниешь, все труды пропадут, всего лишишься…» Просто решил избить, но так,