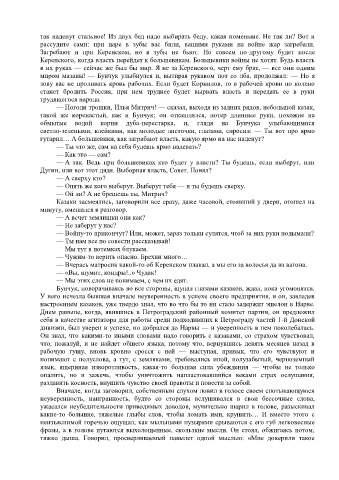Page 292 - Тихий Дон
P. 292
так наденут стальное! Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и
рассудите сами: при царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали.
Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. Но совсем по-другому будет после
Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть
в их руках — сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат, — все они одним
миром мазаны! — Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал: — Но я
зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено
станет бродить Россия, при нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки
трудящегося народа.
— Погоди трошки, Илья Митрич! — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак,
такой же коренастый, как и Бунчук; он откашлялся, потер длинные руки, похожие на
обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися
светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами, спросил: — Ты вот про ярмо
гутарил… А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут?
— Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать?
— Как это — сам?
— А так. Ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут, или
Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, Совет. Понял?
— А сверху кто?
— Опять же кого выберут. Выберут тебя — и ты будешь сверху.
— Ой ли? А не брешешь ты, Митрич?
Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на
минуту, вмешался в разговор.
— А всчет землишки они как?
— Не заберут у нас?
— Войну-то прикончут? Или, может, зараз тольки сулятся, чтоб за них руки подымали?
— Ты нам все по совести рассказывай!
— Мы тут в потемках блукаем.
— Чужим-то верить опасно. Брехни много…
— Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосья да из вагона.
— «Вы, шумит, кондры!..» Чудак!
— Мы этих слов не понимаем, с чем их едят.
Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков, ждал, пока угомонятся.
У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия, и он, завладев
настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве.
Днем раньше, когда, явившись в Петроградский районный комитет партии, он предложил
себя в качестве агитатора для работы среди подходивших к Петрограду частей 1-й Донской
дивизии, был уверен в успехе, но добрался до Нарвы — и уверенность в нем поколебалась.
Он знал, что какими-то иными словами надо говорить с казаками, со страхом чувствовал,
что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому что, вернувшись девять месяцев назад в
рабочую гущу, вновь кровно сросся с ней — выступая, привык, что его чувствуют и
понимают с полуслова, а тут, с земляками, требовались иной, полузабытый, черноземный
язык, ящериная изворотливость, какая-то большая сила убеждения — чтобы не только
опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить напластовавшийся веками страх ослушания,
раздавить косность, внушить чувство своей правоты и повести за собой.
Вначале, когда заговорил, собственным слухом ловил в голосе своем спотыкающуюся
неуверенность, наигранность, будто со стороны вслушивался в свои бессочные слова,
ужасался неубедительности приводимых доводов, мучительно шарил в голове, разыскивал
какие-то большие, тяжелые глыбы слов, чтобы ломать ими, крушить… И вместо этого с
неизъяснимой горечью ощущал, как мыльными пузырями срываются с его губ легковесные
фразы, а в голове путаются выхолощенные, скользкие мысли. Он стоял, обжигаясь потом,
тяжко дыша. Говорил, просверливаемый навылет одной мыслью: «Мне доверили такое