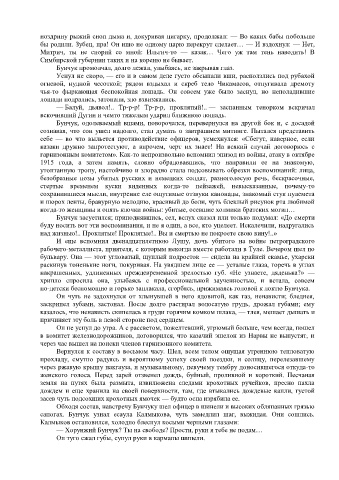Page 294 - Тихий Дон
P. 294
ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал: — Во каких бабы побольше
бы родили. Зубец, пра! Он ишо не одному царю перекрут сделает… — И вздохнул: — Нет,
Митрич, ты не спорий со мной: Ильгич-то — казак… Чего уж там тень наводить! В
Симбирской губернии таких и на кореню не бывает.
Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.
Уснул не скоро, — его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой
огневой, нудной чесоткой; рядом вздыхал и скреб тело Чикамасов, отпугивала дремоту
чья-то фыркающая беспокойная лошадь. Он совсем уже было заснул, но неполадившие
лошади подрались, затопали, зло взвизжались.
— Балуй, дьявол!.. Тр-р-р! Тр-р-р, проклятый!.. — заспанным тенорком вскричал
вскочивший Дугин и чемто тяжелым ударил ближнюю лошадь.
Бунчук, одолеваемый вшами, поворочался, перевернулся на другой бок и, с досадой
сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить
себе — во что выльется противодействие офицеров, усмехнулся: «Сбегут, наверное, если
казаки дружно запротестуют, а впрочем, черт их знает! На всякий случай договорюсь с
гарнизонным комитетом». Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре
1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую,
утоптанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний: лица,
безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные,
стертые временем куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то
сохранившиеся мысли, внутренне еле ощутимые отзвуки канонады, знакомый стук пулемета
и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли, чуть блеклый рисунок рта любимой
когда-то женщины и опять клочки войны: убитые, осевшие холмики братских могил…
Бунчук засуетился; приподнявшись, сел, вслух сказал или только подумал: «До смерти
буду носить вот эти воспоминания, и не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались
над жизнью!.. Проклятые! Проклятые!.. Вы и смертью не покроете свою вину!..»
И еще вспомнил двенадцатилетнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского
рабочего-металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по
бульвару. Она — этот угловатый, щуплый подросток — сидела на крайней скамье, ухарски
раскинув тоненькие ноги, покуривая. На увядшем лице ее — усталые глаза, горечь в углах
накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. «Не узнаете, дяденька?» —
хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала, совсем
по-детски беспомощно и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука.
Он чуть не задохнулся от хлынувшей в него ядовитой, как газ, ненависти; бледнея,
заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами; ему
казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака, — тлея, мешает дышать и
причиняет эту боль в левой стороне под сердцем.
Он не уснул до утра. А с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел
в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и
через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета.
Вернулся к составу в восьмом часу. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую
прохладу, смутно радуясь и вероятному успеху своей поездки, и солнцу, перелезавшему
через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному, певучему тембру доносившегося откуда-то
женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная
земля на путях была размыта, извилюжена следами крохотных ручейков, пресно пахла
дождем и еще хранила на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой
засев чуть подсохших крохотных ямочек — будто оспа изрябила ее.
Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких обляпанных грязью
сапогах. Бунчук узнал есаула Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись.
Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами:
— Хорунжий Бунчук? Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам…
Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели.