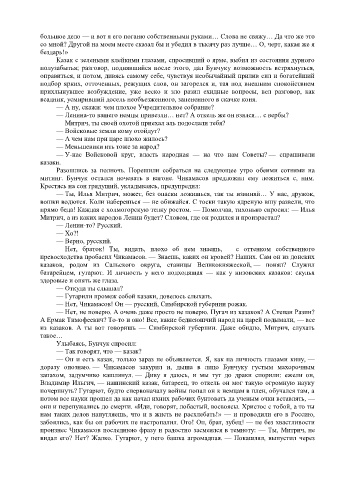Page 293 - Тихий Дон
P. 293
большое дело — и вот я его поганю собственными руками… Слова не свяжу… Да что же это
со мной? Другой на моем месте сказал бы и убедил в тысячу раз лучше… О, черт, какая же я
бездарь!»
Казак с зелеными клейкими глазами, спросивший о ярме, выбил из состояния дурного
полузабытья; разговор, поднявшийся после этого, дал Бунчуку возможность встряхнуться,
оправиться, и потом, дивясь самому себе, чувствуя необычайный прилив сил и богатейший
подбор ярких, отточенных, режущих слов, он загорелся и, тая под внешним спокойствием
прихлынувшее возбуждение, уже веско и зло разил ехидные вопросы, вел разговор, как
всадник, усмиривший досель необъезженного, запененного в скачке коня.
— А ну, скажи: чем плохое Учредительное собрание?
— Ленина-то вашего немцы привезли… нет? А откель же он взялся… с вербы?
— Митрич, ты своей охотой приехал аль подослали тебя?
— Войсковые земли кому отойдут?
— А чем нам при царе плохо жилось?
— Меньшевики ить тоже за народ?
— У-нас Войсковой круг, власть народная — на что нам Советы? — спрашивали
казаки.
Разошлись за полночь. Порешили собраться на следующее утро обеими сотнями на
митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чикамасов предложил ему ложиться с, ним.
Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил:
— Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй… У нас, дружок,
вошки водются. Коли наберешься — не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что
прямо беда! Каждая с холмогорскую телку ростом. — Помолчав, тихонько спросил: — Илья
Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?
— Ленин-то? Русский.
— Хо?!
— Верно, русский.
— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь, — с оттенком собственного
превосходства пробасил Чикамасов. — Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских
казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской, — понял? Служил
батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая — как у низовских казаков: скулья
здоровые и опять же глаза.
— Откуда ты слышал?
— Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать.
— Нет, Чикамасов! Он — русский, Симбирской губернии рожак.
— Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю. Пугач из казаков? А Степан Разин?
А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на царей подымали, — все
из казаков. А ты вот говоришь — Симбирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать
такое…
Улыбаясь, Бунчук спросил:
— Так говорят, что — казак?
— Он и есть казак, только зараз не объявляется. Я, как на личность глазами кину, —
доразу опознаю. — Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным
запахом, задумчиво кашлянул. — Диву я даюсь, и мы тут до драки спорили: ежели он,
Владимир Ильгич, — нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромную науку
почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а
потом все науки прошел да как начал ихних рабочих бунтовать да ученым очки вставлять, —
они и перепужались до смерти. «Иди, говорят, лобастый, восвоясы. Христос с тобой, а то ты
нам таких делов напутляешь, что и в жисть не расхлебать!» — и проводили его в Россию,
забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого! Он, брат, зубец! — не без хвастливости
произнес Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту: — Ты, Митрич, не
видал его? Нет? Жалко. Гутарют, у него башка агромадная. — Покашлял, выпустил через