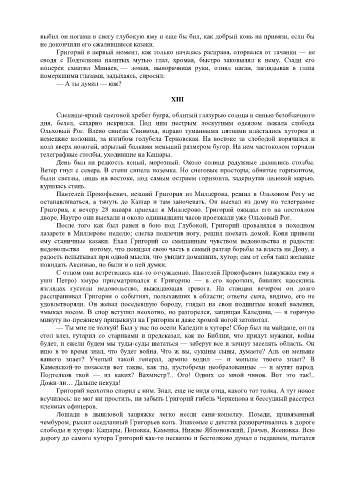Page 349 - Тихий Дон
P. 349
выбил он ногами в снегу глубокую яму и еще бы бил, как добрый конь на привязи, если бы
не докончили его сжалившиеся казаки.
Григорий в первый момент, как только началась расправа, оторвался от тачанки — не
сводя с Подтелкова налитых мутью глаз, хромая, быстро заковылял к нему. Сзади его
поперек схватил Минаев, — ломая, выворачивая руки, отнял наган, заглядывая в глаза
померкшими глазами, задыхаясь, спросил:
— А ты думал — как?
XIII
Слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного
дня, белел, сахарно искрился. Под ним пестрым лоскутным одеялом лежала слобода
Ольховый Рог. Влево синела Свинюха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и
немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На востоке за слободой корячился и
полз вверх пологий, изрытый балками меньший размером бугор. На нем частоколом торчали
телеграфные столбы, уходившие на Кашары.
День был на редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы.
Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но снеговые просторы, обнятые горизонтом,
были светлы, лишь на востоке, под самым острием горизонта, задернутая лиловой марью,
курилась степь.
Пантелей Прокофьевич, везший Григория из Миллерова, решил в Ольховом Рогу не
останавливаться, а тянуть до Кашар и там заночевать. Он выехал из дому по телеграмме
Григория, к вечеру 28 января приехал в Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом
дворе. Наутро они выехали и около одиннадцати часов проезжали уже Ольховый Рог.
После того как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном
лазарете в Миллерове неделю; слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели
ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости:
недовольства — потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а
радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание
повидать Аксинью, но были и о ней думки.
С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич (нажужжал ему в
уши Петро) хмуро присматривался к Григорию — в его коротких, бивших наосклизь
взглядах густели недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго
расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области; ответы сына, видимо, его не
удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки,
чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина, — в горячую
минуту по-прежнему прицыкнул на Григория и даже хромой ногой затопотал.
— Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на майдане, он на
стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война
будет, и ежели будем мы туды-суды шататься — заберут все и зачнут заселять область. Он
ишо в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше
вашего знает? Ученый такой генерал, армию водил — и меньше твоего знает? В
Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные — и мутят народ.
Подтелков твой — из каких? Вахмистр?.. Ого! Одних со мной чинов. Вот это так!..
Дожи-ли… Дальше некуда!
Григорий неохотно спорил с ним. Знал, еще не видя отца, какого тот толка. А тут новое
всучилось: не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел
пленных офицеров.
Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. Позади, привязанный
чембуром, рысил оседланный Григорьев конь. Знакомые с детства разворачивались в дороге
слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясеновка. Всю
дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался