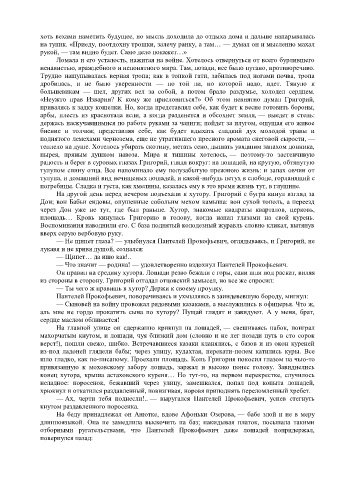Page 350 - Тихий Дон
P. 350
хоть вехами наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась
на тупик. «Приеду, поотдохну трошки, залечу ранку, а там… — думал он и мысленно махал
рукой, — там видно будет. Само дело покажет…»
Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего
ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво.
Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, забилась под ногами почва, тропа
дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к
большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем.
«Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом невнятно думал Григорий,
привалясь к задку кошелки. Но, когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны,
арбы, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля, — выедет в степь:
держась наскучавшимися по работе руками за чапиги; пойдет за плугом, ощущая его живое
биение и толчки; представляя себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и
поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сырости, —
теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника,
пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось, — поэтому-то застенчивую
радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую
тулупом спину отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь: и запах овчин от
тулупа, и домашний вид нечищеных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горланящий с
погребицы. Сладка и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.
На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд за
Дон; вон Бабьи ендовы, опушенные собольим мехом камыша: вон сухой тополь, а переезд
через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь,
площадь… Кровь кинулась Григорию в голову, когда напал глазами на свой курень.
Воспоминания наводнили его. С база поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув
вверх серую вербовую руку.
— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не
лукавя и не кривя душой, сознался:
— Щипет… да ишо как!..
— Что значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич.
Он правил на средину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя
из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил:
— Ты чего ж правишь в хутор? Держи к своему проулку.
Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевевшую бороду, мигнул:
— Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицерья. Что ж,
аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай глядят и завидуют. А у меня, брат,
сердце маслом обливается!
На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей, — свешиваясь набок, поиграл
махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом (словно и не лег позади путь в сто сорок
верст!), пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись, с базов и из окон куреней
из-под ладоней глядели бабы; через улицу, кудахтая, перекати-полем катились куры. Все
шло гладко, как по-писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то
привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелись
конец хутора, крыша астаховского куреня… Но тут-то, на первом перекрестке, случилось
неладное: поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей,
хрюкнул и откатился раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.
— Ах, черти тебя поднесли!.. — выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть
кнутом раздавленного поросенка.
На беду принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова, — бабе злой и не в меру
длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими
отборными ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал,
повернулся назад: