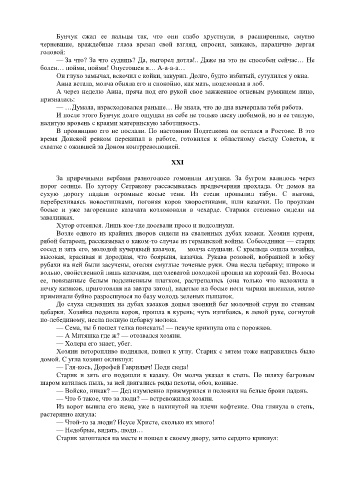Page 376 - Тихий Дон
P. 376
Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, смутно
черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, паралично дергая
головой:
— За что? За что судишь? Да, выгорел дотла!.. Даже на это не способен сейчас… Не
болен… пойми, пойми! Опустошен я… А-а-а-а…
Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна.
Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб.
А через неделю Анна, пряча под его рукой свое зажженное огневым румянцем лицо,
призналась:
— …Думала, израсходовался раньше… Не знала, что до дна вычерпала тебя работа.
И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку любимой, но и ее теплую,
налитую вровень с краями материнскую заботливость.
В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова он остался в Ростове. В это
время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду Советов, к
схватке с ожившей за Доном контрреволюцией.
XXI
За приречными вербами разноголосо гомонили лягушки. За бугром валилось через
порог солнце. По хутору Сетракову рассасывалась предвечерняя прохлада. От домов на
сухую дорогу падали огромные косые тени. Из степи пропылил табун. С выгона,
перебрехиваясь новостишками, погоняя коров хворостинами, шли казачки. По проулкам
босые и уже загоревшие казачата козлоковали в чехарде. Старики степенно сидели на
завалинках.
Хутор отсеялся. Лишь кое-где досевали просо и подсолнухи.
Возле одного из крайних дворов сидели на сваленных дубах казаки. Хозяин куреня,
рябой батареец, рассказывал о каком-то случае из германской войны. Собеседники — старик
сосед и зять его, молодой кучерявый казачок, — молча слушали. С крыльца сошла хозяйка,
высокая, красивая и дородная, что боярыня, казачка. Рукава розовой, вобранной в юбку
рубахи на ней были засучены, оголяя смуглые точеные руки. Она несла цебарку; широко и
вольно, свойственной лишь казачкам, щеголеватой походкой прошла на коровий баз. Волосы
ее, повязанные белым подсиненным платком, растрепались (она только что наложила в
печку кизяков, приготовляя на завтра затоп), надетые на босые ноги чирики шлепали, мягко
приминали буйно разросшуюся по базу молодь зеленых пышаток.
До слуха сидевших на дубах казаков дошел звонкий бег молочной струи по стенкам
цебарки. Хозяйка подоила коров, прошла в курень; чуть изгибаясь, в левой руке, согнутой
по-лебединому, несла полную цебарку молока.
— Сема, ты б пошел телка поискать! — певуче крикнула она с порожков.
— А Митяшка где ж? — отозвался хозяин.
— Холера его знает, убег.
Хозяин неторопливо поднялся, пошел к углу. Старик с зятем тоже направились было
домой. С угла хозяин окликнул:
— Гля-кось, Дорофей Гаврилыч! Поди сюда!
Старик и зять его подошли к казаку. Он молча указал в степь. По шляху багровым
шаром катилась пыль, за ней двигались ряды пехоты, обоз, конные.
— Войско, никак? — Дед изумленно прижмурился и положил на белые брови ладонь.
— Что б такое, что за люди? — встревожился хозяин.
Из ворот вышла его жена, уже в накинутой на плечи кофтенке. Она глянула в степь,
растерянно ахнула:
— Чтой-то за люди? Исусе Христе, сколько их много!
— Недобрые, видать, люди…
Старик затоптался на месте и пошел к своему двору, зятю сердито крикнул: