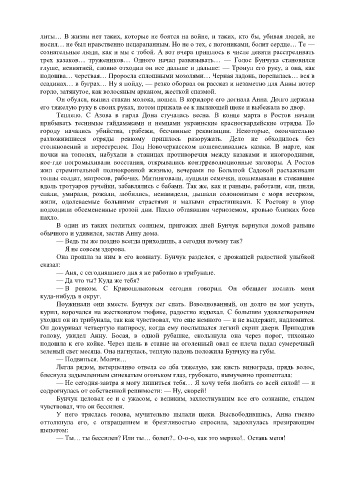Page 375 - Тихий Дон
P. 375
литы… В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не
носил… не был нравственно исцарапанным. Но не о тех, с погониками, болит сердце… Те —
сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе девяти расстреливать
трех казаков… тружеников… Одного начал развязывать… — Голос Бунчука становился
глуше, невнятней, словно отходил он все дальше и дальше: — Тронул его руку, а она, как
подошва… черствая… Проросла сплошными мозолями… Черная ладонь, порепалась… вся в
ссадинах… в буграх… Ну я пойду, — резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер
горло, затянутое, как волосяным арканом, жесткой спазмой.
Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна. Долго держала
его тяжелую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор.
Теплело. С Азова в гирла Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали
прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По
городу начались убийства, грабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые, окончательно
разложившиеся отряды ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось без
столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как
почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними,
кое-где погромыхивали восстания, открывались контрреволюционные заговоры. А Ростов
жил стремительной полнокровной жизнью, вечерами по Большой Садовой расхаживали
толпы солдат, матросов, рабочих. Митинговали, лущили семечки, поплевывали в стекавшие
вдоль тротуаров ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили,
спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком,
жили, одолеваемые большими страстями и малыми страстишками. К Ростову в упор
подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев
пахло.
В один из таких политых солнцем, пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше
обычного и удивился, застав Анну дома.
— Ведь ты же поздно всегда приходишь, а сегодня почему так?
— Я не совсем здорова.
Она прошла за ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой
сказал:
— Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале.
— Да что ты? Куда же тебя?
— В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня
куда-нибудь в округ.
Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть,
курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением
уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится.
Он докуривал четвертую папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв
голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько
подошла к его койке. Через щель в ставне на оголенный овал ее плеча падал сумеречный
зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы.
— Подвинься. Молчи…
Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос,
блеснула задымленным синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:
— Не сегодня-завтра я могу лишиться тебя… Я хочу тебя любить со всей силой! — и
содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!
Бунчук целовал ее и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание, стыдом
чувствовал, что он бессилен.
У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно
оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим
шепотом:
— Ты… ты бессилен? Или ты… болен?.. О-о-о, как это мерзко!.. Оставь меня!