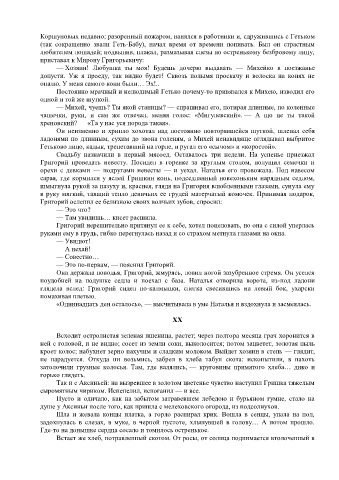Page 49 - Тихий Дон
P. 49
Коршуновых недавно; разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком
(так сокращенно звали Геть-Бабу), начал время от времени попивать. Был он страстным
любителем лошадей; подвыпив, плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу,
приставал к Мирону Григорьевичу:
— Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерю выдавать — Михейко в поезжанье
допусти. Уж я проеду, так видно будет! Сквозь полымя проскачу и волоска на конях не
опалю. У меня самого кони были… Эх!..
Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею, изводил его
одной и той же шуткой.
— Михей, чуешь? Ты якой станицы? — спрашивал его, потирая длинные, по коленные
чашечки, руки, и сам же отвечал, меняя голос: «Мигулевский». — А що це ты такой
хреновский? — «Та у нас уся порода такая».
Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя
ладонями по длинным, сухим до звона голеням, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое
Гетьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его «сычом» и «коростой».
Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось три недели. На успенье приезжал
Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, полущил семечки и
орехи с девками — подругами невесты — и уехал. Наталья его провожала. Под навесом
сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом,
шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему
в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее грудей матерчатый комочек. Принимая подарок,
Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил:
— Это что?
— Там увидишь… кисет расшила.
Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась
руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.
— Увидют!
— А нехай!
— Совестно…
— Это по-первам, — пояснил Григорий.
Она держала поводья, Григорий, жмурясь, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся
поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони
глядела вслед: Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски
помахивая плетью.
«Одиннадцать ден осталось», — высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.
XX
Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в
ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится; потом зацветет, золотая пыль
кроет колос; набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь — глядит,
не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть
затолочили грузные колосья. Там, где валялись, — круговины примятого хлеба… дико и
горько глядеть.
Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжелым
сыромятным чириком. Испепелил, испоганил — и все.
Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном гумне, стало на
душе у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода, из подсолнухов.
Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол,
задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову… А потом прошло.
Где-то на донышке сердца сосало и томилось остренькое.
Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается втолоченный в