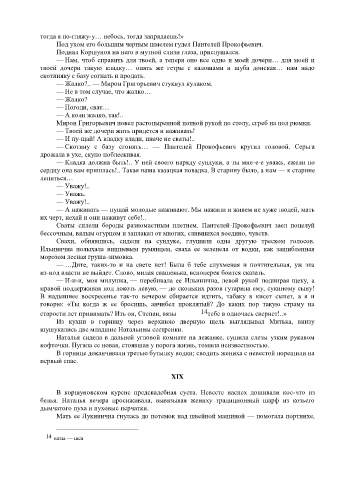Page 46 - Тихий Дон
P. 46
тогда я по-гляжу-у… небось, тогда запрядаешь!»
Под ухом его большим черным шмелем гудел Пантелей Прокофьевич.
Поднял Коршунов на него в мутной слизи глаза, прислушался.
— Нам, чтоб справить для твоей, а теперя оно все одно и моей дочери… для моей и
твоей дочери такую кладку… опять же гетры с калошами и шуба донская… нам надо
скотиняку с базу согнать и продать.
— Жалко?.. — Мирон Григорьевич стукнул кулаком.
— Не в том случае, что жалко…
— Жалко?
— Погоди, сват…
— А коли жалко, так!..
Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки.
— Твоей же дочери жить придется и наживать!
— И пу-щай! А кладку клади, иначе не сваты!..
— Скотину с базу сгонять… — Пантелей Прокофьевич крутил головой. Серьга
дрожала в ухе, скупо поблескивая.
— Кладка должна быть!.. У ней своего наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь, ежели по
сердцу она вам пришлась!.. Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам — к старине
лепиться…
— Уважу!..
— Уважь.
— Уважу!..
— А наживать — пущай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать
их черт, нехай и они наживут себе!..
Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей-Прокофьевич заел поцелуй
бессочным, вялым огурцом и заплакал от многих, слившихся воедино, чувств.
Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов.
Ильинична полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная
морозом лесная груша-зимовка.
— …Дите, таких-то и на свете нет! Была б тебе слухменая и почтительная, уж эта
из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать.
— И-и-и, моя милушка, — перебивала ее Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а
правой поддерживая под локоть левую, — до скольких разов гутарила ему, сукиному сыну!
В надышнее воскресенье так-то вечером сбирается идтить, табаку в кисет сыпет, а я и
говорю: «Ты когда ж ее бросишь, анчибел проклятый? До каких пор такую страму на
старости лет принимать? Ить он, Степан, вязы 14 тебе в одночась свернет!..»
Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель выглядывал Митька, внизу
шушукались две младшие Натальины сестренки.
Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом
кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью.
В горнице доканчивали третью бутылку водки; сводить жениха с невестой порешили на
первый спас.
XIX
В коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из
белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего
дымчатого пуха и пуховые перчатки.
Мать ее Лукинична гнулась до потемок над швейной машиной — помогала портнихе,
14 вязы — шея