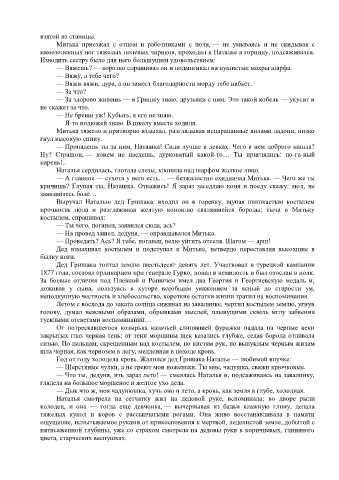Page 47 - Тихий Дон
P. 47
взятой из станицы.
Митька приезжал с отцом и работниками с поля, — не умываясь и не скидывая с
намозоленных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался.
Изводить сестру было для него большущим удовольствием:
— Вяжешь? — коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарфа.
— Вяжу, а тебе чего?
— Вяжи-вяжи, дура, а он замест благодарности морду тебе набьет.
— За что?
— За здорово живешь — я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель — укусит и
не скажет за что.
— Не бреши уж! Кубыть, я его не знаю.
— Я-то подюжей знаю. В школу вместе ходили.
Митька тяжело и притворно вздыхал, разглядывая исцарапанные вилами ладони, низко
гнул высокую спину.
— Пропадешь ты за ним, Наташка! Сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла?
Ну? Страшон, — конем не наедешь, дурковатый какой-то… Ты приглядись: по-га-ный
парень!..
Наталья сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо.
— А главное — сухота у него есть… — безжалостно ехидничал Митька. — Чего же ты
кричишь? Глупая ты, Наташка. Откажись! Я зараз заседлаю коня и поеду скажу: мол, не
заявляйтесь боле…
Выручал Наталью дед Гришака: входил он в горенку, щупая шишкастым костылем
прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалявшейся бороды; тыча в Митьку
костылем, спрашивал:
— Ты чего, поганец, заявился сюда, ась?
— На провед зашел, дедуня, — оправдывался Митька.
— Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтить отселя. Шагом — арш!
Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в
былку ноги.
Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании
1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк.
За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и Георгиевскую медаль и,
доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум,
неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.
Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костылем землю, угнув
голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения
тусклыми отсветами воспоминаний…
От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки
закрытых глаз черная тень; от тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала
сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам
шла черная, как чернозем в логу, медленная в походе кровь.
Год от году холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталье — любимой внучке:
— Шерстяные чулки, а не греют мои ноженьки. Ты мне, чадушка, свяжи крючковые.
— Что ты, дедуня, ить зараз лето! — смеялась Наталья и, подсаживаясь на завалинку,
глядела на большое морщеное и желтое ухо деда.
— Дык что ж, моя чадунюшка, хучь оно и лето, а кровь, как земля в глубе, холодная.
Наталья смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала: во дворе рыли
колодец, и она — тогда еще девчонка, — вычерпывая из бадьи влажную глину, делала
тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти
ощущение, испытываемое руками от прикосновения к мертвой, леденистой земле, добытой с
пятисаженной глубины, уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного
цвета, старческих веснушках.