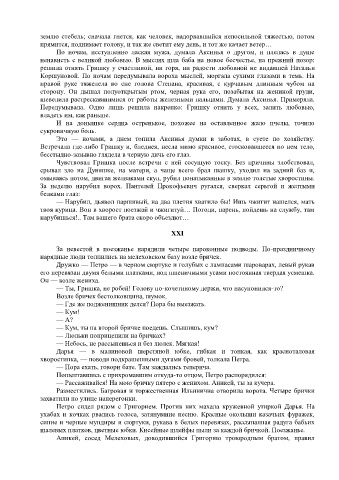Page 50 - Тихий Дон
P. 50
землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом
прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер…
По ночам, исступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и плелась в душе
ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор:
решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной не видавшей Натальи
Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в темь. На
правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на
сторону. Он дышал полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жениной груди,
шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья. Примеряла.
Передумывала. Одно лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью,
владеть им, как раньше.
И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило
сукровичную боль.
Это — ночами, а днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству.
Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело,
бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь его глаз.
Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал,
срывал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний баз и,
омываясь потом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины.
За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич ругался, сверкал серьгой и желтыми
белками глаз:
— Нарубил, дьявол паршивый, на два плетня хватило бы! Ишь чжигит нашелся, мать
твоя курица. Вон в хворост поезжай и чжигитуй… Погоди, парень, пойдешь на службу, там
нарубишься!.. Там вашего брата скоро объездют…
XXI
За невестой в поезжанье нарядили четыре пароконные подводы. По-праздничному
нарядные люди толпились на мелеховском базу возле бричек.
Дружко — Петро — в черном сюртуке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав
его перевязан двумя белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка.
Он — возле жениха.
— Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи, что насупонился-то?
Возле бричек бестолковщина, шумок.
— Где же подженишник делся? Пора бы выезжать.
— Кум!
— А?
— Кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум?
— Люльки поприцепили на бричках?
— Небось, не рассыпешься и без люлек. Мягкая!
Дарья — в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая
хворостинка, — поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра.
— Пора ехать, говори бате. Там заждались теперича.
Пошептавшись с прихромавшим откуда-то отцом, Петро распорядился:
— Рассаживайся! На мою бричку пятеро с женихом. Аникей, ты за кучера.
Разместились. Багровая и торжественная Ильинична отворила ворота. Четыре брички
захватили по улице наперегонки.
Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На
ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек,
синие и черные мундиры и сюртуки, рукава в белых перевязах, рассыпанная радуга бабьих
шалевых платков, цветные юбки. Кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье.
Аникей, сосед Мелеховых, доводившийся Григорию троюродным братом, правил