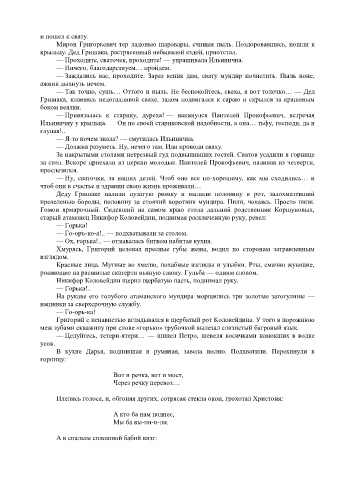Page 54 - Тихий Дон
P. 54
и пошел к свату.
Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к
крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал.
— Проходите, сваточек, проходите! — упрашивала Ильинична.
— Ничего, благодарствуем… пройдем.
— Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить. Пыль ноне,
ажник дыхнуть нечем.
— Так точно, сушь… Оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот толечко… — Дед
Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашеным
боком веялки.
— Привязалась к старику, дуреха! — накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая
Ильиничну у крыльца. — Он по своей стариковской надобности, а она… тьфу, господи, да и
глупая!..
— Я-то почем знала? — смутилась Ильинична.
— Должна разуметь. Ну, нечего там. Иди проводи сваху.
За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице
за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти,
прослезился.
— Ну, сваточки, за наших детей. Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились… и
чтоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали…
Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматевший
прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь. Просто пили.
Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых,
старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел:
— Горька!
— Го-оръ-ко-а!.. — подхватывали за столом.
— Ох, горька!.. — отзывалась битком набитая кухня.
Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным
взглядом.
Красные лица. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие,
роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну. Гульба — одним словом.
Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть, поднимал руку.
— Горька!..
На рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотые загогулины —
нашивки за сверхсрочную службу.
— Го-орь-ка!
Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю
меж зубами скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык.
— Целуйтесь, тетери-ятери… — шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке
усов.
В кухне Дарья, подпившая и румяная, завела песню. Подхватили. Перекинули в
горницу:
Вот и речка, вот и мост,
Через речку перевоз…
Плелись голоса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня:
А кто ба нам поднес,
Мы ба вы-пи-и-ли.
А в спальне сплошной бабий визг: