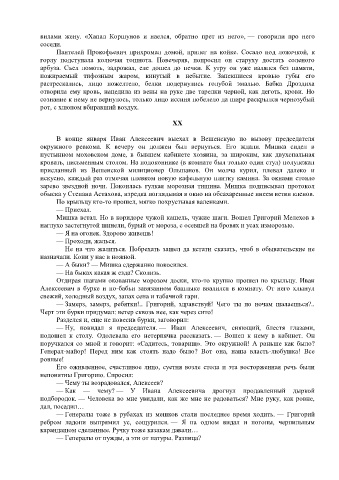Page 493 - Тихий Дон
P. 493
вилами жену. «Хапал Коршунов и наелся, обратно прет из него», — говорили про него
соседи.
Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к
горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, попросил он старуху достать соленого
арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти,
пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его
растрескались, лицо пожелтело, белки подернулись голубой эмалью. Бабка Дроздиха
отворила ему кровь, нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь, крови. Но
сознание к нему не вернулось, только лицо иссиня побелело да шире раскрылся чернозубый
рот, с хлюпом вбиравший воздух.
XX
В конце января Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя
окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка сидел в
пустынном моховском доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двухспальная
кровать, письменным столом. На подоконнике (в комнате был только один стул) полулежал
присланный из Вешенской милиционер Ольшанов. Он молча курил, плевал далеко и
искусно, каждый раз отмечая плевком новую кафельную плитку камина. За окнами стояло
зарево звездной ночи. Покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол
обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов.
По крыльцу кто-то прошел, мягко похрустывая валенками.
— Приехал.
Мишка встал. Но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в
наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, с осевшей на бровях и усах изморозью.
— Я на огонек. Здорово живешь!
— Проходи, жалься.
— Не на что жалиться. Побрехать зашел да кстати сказать, чтоб в обывательские не
назначали. Кони у нас в ножной.
— А быки? — Мишка сдержанно покосился.
— На быках какая ж езда? Сколизь.
Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван
Алексеевич в бурке и по-бабьи завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул
свежий, холодный воздух, запах сена и табачной гари.
— Замерз, замерз, ребятки!.. Григорий, здравствуй! Чего ты по ночам шалаешься?..
Черт эти бурки придумал: ветер сквозь нее, как через сито!
Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил:
— Ну, повидал я председателя. — Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами,
подошел к столу. Одолевала его нетерпячка рассказать. — Вошел к нему в кабинет. Он
поручкался со мной и говорит: «Садитесь, товарищ». Это окружной! А раньше как было?
Генерал-майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть-любушка! Все
ровные!
Его оживленное, счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были
непонятны Григорию. Спросил:
— Чему ты возрадовался, Алексеев?
— Как — чему? — У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный дыркой
подбородок. — Человека во мне увидали, как же мне не радоваться? Мне руку, как ровне,
дал, посадил…
— Генералы тоже в рубахах из мешков стали последнее время ходить. — Григорий
ребром ладони выпрямил ус, сощурился. — Я на одном видал и погоны, чернильным
карандашом сделанные. Ручку тоже казакам давали…
— Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница?