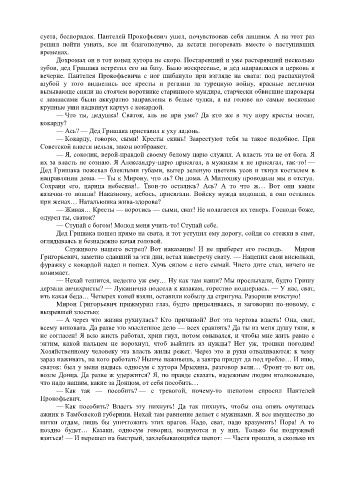Page 491 - Тихий Дон
P. 491
суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним. А на этот раз
решил пойти узнать, все ли благополучно, да кстати погоревать вместе о наступивших
временах.
Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько
зубов, дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к
вечерне. Пантелея Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата: под распахнутой
шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну, красные петлички
вызывающе сияли на стоячем воротнике старинного мундира, старчески обвисшие шаровары
с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове по самые восковые
крупные уши надвинут картуз с кокардой.
— Что ты, дедушка! Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит,
кокарду?
— Ась? — Дед Гришака приставил к уху ладонь.
— Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное. При
Советской власти нельзя, закон возбраняет.
— Я, соколик, верой-правдой своему белому царю служил. А власть эта не от бога. Я
их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то! —
Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в
направлении дома. — Ты к Мирону, что ль? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ.
Сохрани его, царица небесная!.. Твои-то остались? Ась? А то что ж… Вот они какие
казачки-то пошли! Наказному, небось, присягали. Войску нужда подошла, а они остались
при женах… Натальюшка жива-здорова?
— Живая… Кресты — воротись — сыми, сват! Не полагается их теперь. Господи боже,
одурел ты, сваток?
— Ступай с богом! Молод меня учить-то! Ступай себе.
Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег,
оглядываясь и безнадежно качая головой.
— Служивого нашего встрел? Вот наказание! И не приберет его господь. — Мирон
Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату. — Нацепил свои висюльки,
фуражку с кокардой надел и пошел. Хучь силом с него сымай. Чисто дите стал, ничего не
понимает.
— Нехай тешится, недолго уж ему… Ну как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу
дерзали анчихристы? — Лукинична подсела к казакам, горестно подперлась. — У нас, сват,
ить какая беда… Четырех коней взяли, оставили кобылу да стригуна. Разорили вчистую!
Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому, с
вызревшей злостью:
— А через что жизня рухнулась? Кто причиной? Вот эта чертова власть! Она, сват,
всему виновата. Да разве это мысленное дело — всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я
не согласен! Я всю жисть работал, хрип гнул, потом омывался, и чтобы мне жить равно с
энтим, какой пальцем не ворохнул, чтоб выйтить из нужды? Нет уж, трошки погодим!
Хозяйственному человеку эта власть жилы режет. Через это и руки отваливаются: к чему
зараз наживать, на кого работать? Нынче наживешь, а завтра придут да под гребло… И ишо,
сваток: был у меня надысь односум с хутора Мрыхина, разговор вели… Фронт-то вот он,
возле Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю,
что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить…
— Как так — пособить? — с тревогой, почему-то шепотом спросил Пантелей
Прокофьевич.
— Как пособить? Власть эту пихнуть! Да так пихнуть, чтобы она опять очутилась
ажник в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до
нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, надо вразумить! Пора! А то
поздно будет… Казаки, односум говорил, волнуются и у них. Только бы подружней
взяться! — И перешел на быстрый, захлебывающийся шепот: — Частя прошли, а сколько их